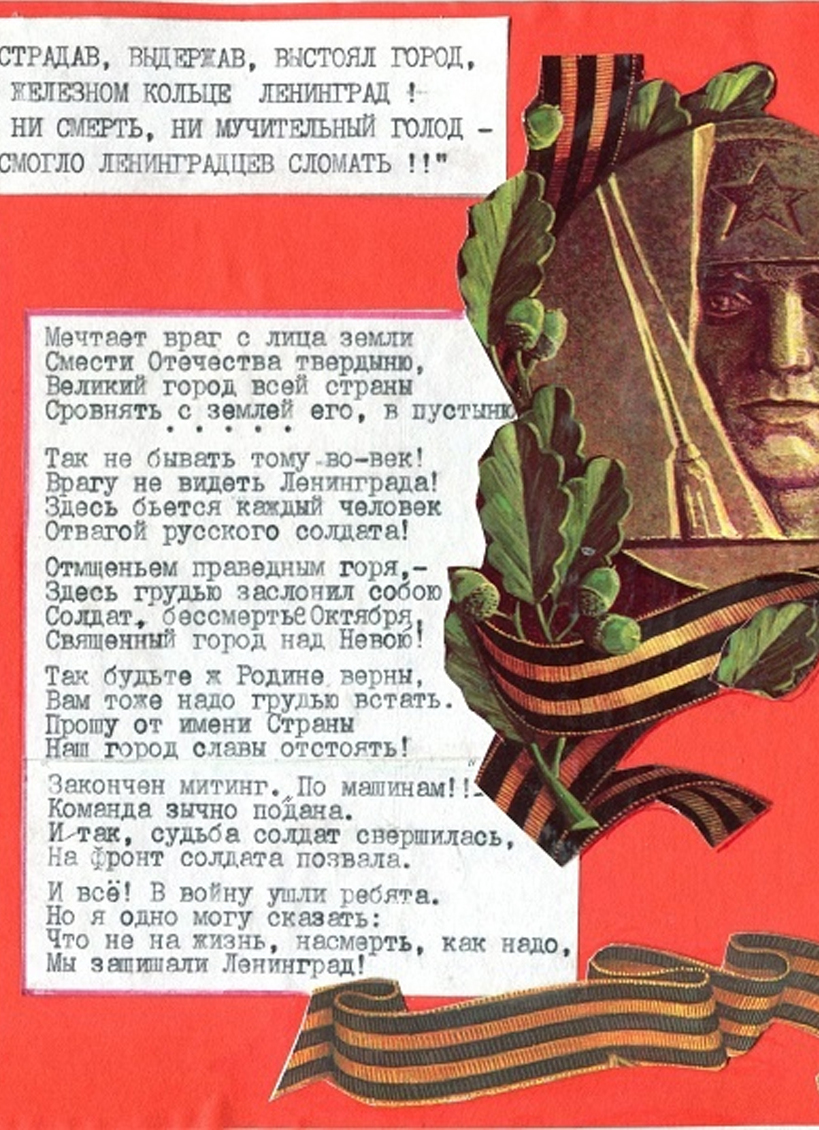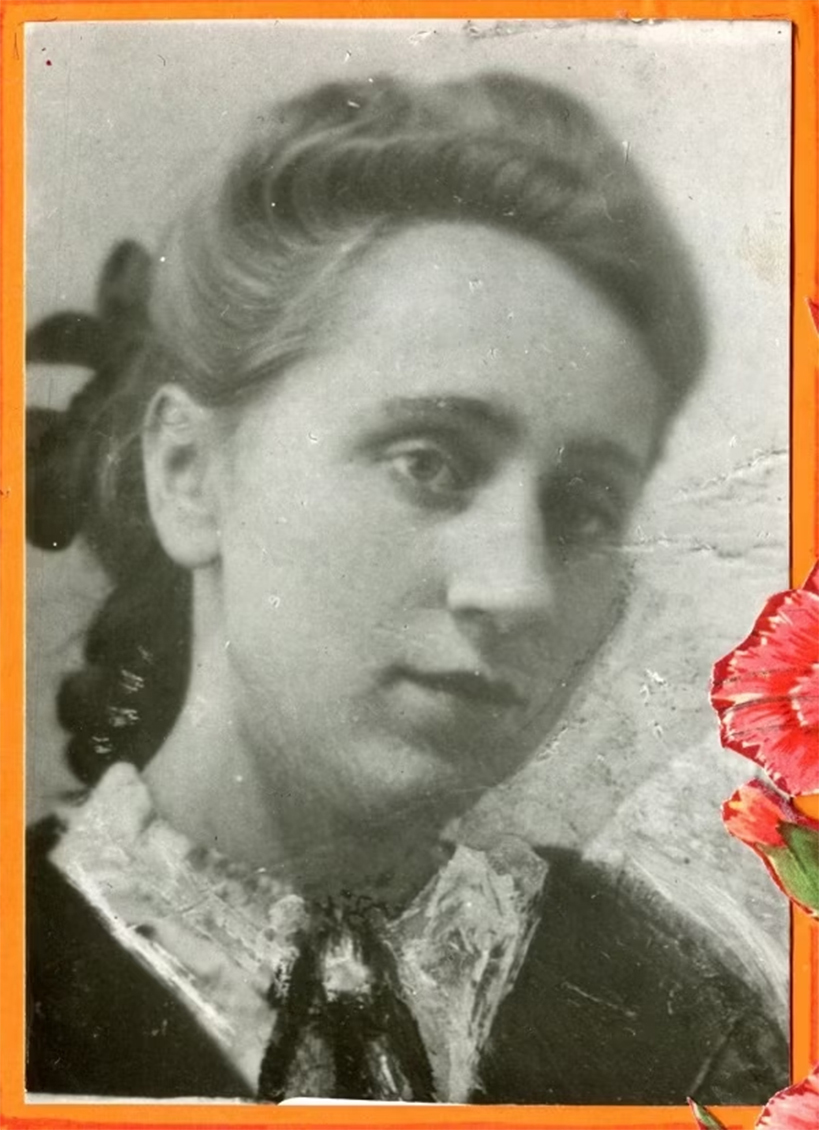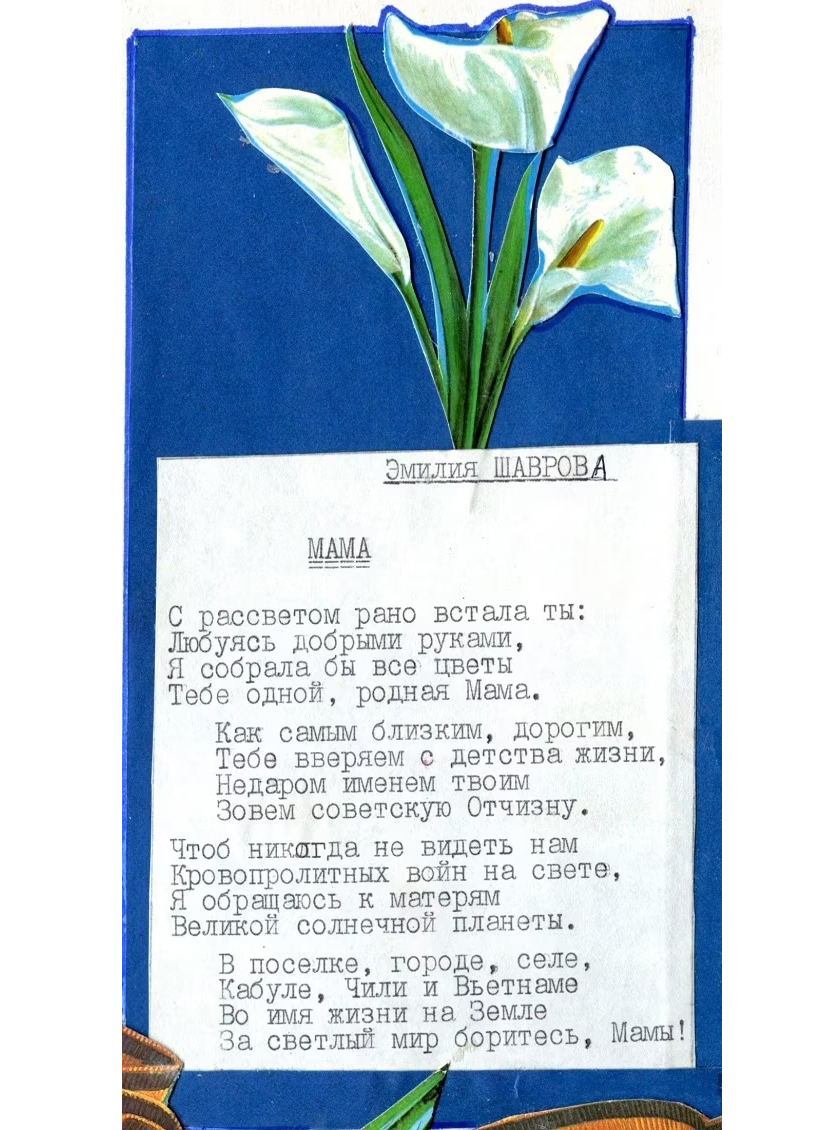ЮНЫЕ ГЕРОИ. ДЕТИ ВОЙНЫ
|
Юные, погибшие герои, Л. Кузубов |
 |
|
Азаренко Николай Григорьевич
Баранаева Екатерина Титовна Барковский Иван Платонович
×
БАРКОЎСКІ ІВАН ПЛАТОНАВІЧ
Узнагароджаны медалём «За адвагу» (1944). Пасля вайны працаваў у саўгасе «Старасельскі» кавалём.
Литература Барковский Иван Платонович // Память народа. 1941-1945. [Электронный ресурс] : электронный банк документов периода Великой Отечественной войны / Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. – Москва, 2018–2022. – Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero4406245/ Панкратаў, М. Сын палка / М. Панкратаў // Ленінскі шлях (Горкі). – 1993. 19 мая. Блиндерова (Пищикова) Екатерина Даниловна Бобкова Г. Васильев Владимир
×
ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР
Родился в деревне Паленка Горецкого района. Во время Великой Отечественной войны шестиклассник Селецкой неполной школы стал членом подпольной группы Лихачевской МТС. С первых дней войны брат Володи, родители влились в ряды бойцов за свободу родной страны. Об этом узнали фашисты, в сентябре 1942 года погиб отец, в марте 1943 года в лапы гестаповцев попала и Ульяна Филипповна. Юный Володя ушел в партизанский отряд и был зачислен во взвод разведки. Каждую неделю Володя ходил на боевое задание: следил за движением вражеских автомашин на дороге Могилев-Орша, вел наблюдение за проходившими эшелонами на полустанке Зубры. Но чаще всего его посылали в Горки. Оттуда, походив по улицам города, а потом навестив несколько конспиративных квартир, Володя всегда приносил командованию отряда немало ценных сведений. Неудача постигла юного разведчика в августе 1943 года. Бойцы 35-го Горецкого партизанского отряда решили начать «рельсовую войну» серией диверсий на перегоне Орша-Кричев. К «железке», как всегда, первыми пошли разведчики, чтобы изучить обстановку в окрестностях станции Погодино. Во время выполнения боевого задания юный разведчик попал в руки гитлеровцев. Володя героически перенес все испытания и не опустил гордой головы даже тогда, когда его повели на эшафот, сооруженный на одной из площадей Горок, и на глазах у согнанных горожан повесили юного героя.
Литература Стальмашонак, І. Ён быў патрыётам / І. Стальмашонак // Ленінскі шлях (Горкі). – 1993. – 27 сакавіка. Сцепанькоў, Д. Смелы партызан / Д. Сцепанькоў // Ленінскі шлях (Горкі). – 1984. – 16 чэрвеня. Васильев Николай
×
ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
Юные мстители выполняли в отрядах самые разные поручения, во всем помогали взрослым, чтобы приблизить час Победы. Пионер Коля Васильев был связным и разведчиком в партизанском отряде. Доставлял ценную информацию о численности немецких гарнизонов, количестве военной техники, оружия. Во время выполнения задания был задержан полицией, но сумел убежать к партизанам. После окончания войны Николай Федорович Васильев жил в родной деревне Паленка. Награжден медалью «Партизан Отечественной войны II степени» (1944).
Литература ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ// Партизаны Беларуси [Электронный ресурс] : спецпроект Издательского дома «Беларусь сегодня» и Национального архива Беларуси. – Минск, 1998–2023. – Режим доступа: https://partizany.by/partisans/38472/. Васильева Анна Александровна
×
ВАСИЛЬЕВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА
В начале 1943 года партизаны решили сменить место дислокации и перейти в лес к деревне Чепелинка. В то время там располагался 112-й партизанский отряд под командованием В. Д Шарова. Вместе с ними и другими молодыми жителями пошла Анечка служить в отряд. Родители не отпускали, но она все ровно убежала. В отряде Анечку зачислили во вторую роту и поручили охранять воду. Выдали винтовку, которая больше чем девочка. Когда командир роты увидел Анечку, стоящую в карауле, то жалко стало ее. Прижал к себе и с болью в сердце сказал: «Девочка, девочка, тебе бы еще в куклы играть, а не винтовку держать в руках». Отправил командир Анечку в хозяйственный взвод, где поручили ей ответственное дело – печь хлеб. В 1944 году партизанский отряд перешел из Чепелинского леса в Сахаровский. Анечка возвратилась домой. Анна Александровна Васильева имеет удостоверение партизана, награждена медалями.
Власова Надежда Иововна
×
ВЛАСОВА НАДЕЖДА ИОВОВНА
В годы Великой Отечественной войны разделила судьбу жителей блокадного Ленинграда.
Воробьев Евгений Федорович
×
ВОРОБЬЕВ ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ
Со 2 августа 1942 г. по 1 июня 1944 г. считался рядовым партизаном партизанской группы 17-й бригады 115-го отряда Горецкой партизанской бригады. Был связным. 1 июня погиб в бою партизан с фашистами в Баронском лесу, что на Шкловщине. Награжден орденом Отечественной войны I степени (1948). С первых дней войны Женя стал незаменимым помощником в патриотической деятельности своего отца Федора Андреевича. Он передавал бойцам-окруженцам питание и одежду, выполнял поручения отца. Под видом «пастушка» встречался с партизанами и получал от них задания для местных подпольщиков. Жил он возле леса, часто ходил в лес за грибами и ягодами, пас с дедушкой коров. Всякий раз он наполнял карманы продуктами и передавал их бойцам. Немало перенёс он им различной обуви, одежды и продуктов, которые мать Жени собирала для них, где могла. А когда в деревне начала действовать подпольная группа, которую возглавил его двоюродный брат Дмитриев Евгений, Женя стал связным. Частые встречи объяснялись родством и были вне подозрений. 3-го августа 1942 года за связь с партизанами был расстрелян отец Жени. Женя с матерью и дедушкой уходят в партизанский отряд. Почти два года мальчик сражался с фашистами в партизанском отряде. Леса Горецкого, Чаусского, Славгородского и Быховского районов были для него родным домом. Женя участник боёв в Черничном посёлке, в Чепелинском, Рекотском, Тудоровском лесах, участник самой тяжёлой для партизан Боевской блокады в Быховском районе в октябре 1943 года. Женя отличался отвагой, в каких бы боевых операциях ему не приходилось участвовать: минировании дорог, диверсиях на линиях вражеской телефонной связи, в засадных боях и в дерзких нападениях на гарнизоны противника. В 1943 году Женя был представлен к боевой награде – медали «За отвагу». 1 июля 1944 года, возвращаясь из очередного задания, Женя с друзьями наткнулись на немецкую засаду. Завязался бой, Женя получил тяжелое ранение. Немцы хотели взять его живым, но мальчик поднялся во весь рост и, зажав в руке гранату, пошел навстречу врагам. Лес содрогнулся от взрыва. Юный Женя погиб. За этот подвиг он был удостоен ордена Отечественной войны I степени. Похоронен в Бороновском лесу на Оршанщине в братской могиле.
Литература Вараб’ёў Яўген Фёдаравіч // Памяць : Горацкі раён : гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / рэдкалегія: А. А. Крывянкоў і інш. — Мінск : Вышэйшая школа, 1996. — С. 267. Воробьев Евгений Федорович // Партизаны Беларуси [Электронный ресурс] : спецпроект Издательского дома «Беларусь сегодня» и Национального архива Беларуси. – Минск, 1998–2023. – Режим доступа: https://partizany.by/partisans/110413/. Галковская, Я. Юные мстители : [о пионерах-героях Горецкого района] / Яна Галковская // Горацкі веснік шлях (Горкі). – 2015. – 9 23 красавіка. – С. 2. Дакументы сведчаць // Магілёўская праўда. – 1985. – 16 сакавіка. Дмитриева, Ю. Мы боролись за светлое сегодня : [из воспоминаний участницы партизанского движения в Горецком районе Юлии Антоновны Дмитриевой] / Юлия Антоновна Дмитриева // Краеведческий фонд Горецкой центральной библиотеки им. М. Горецкого. – 5 с. Кандрусевич, К. И взорвалось сердце гранатой / К. Кандрусевич // Кандрусевич К. Юные герои Могилевщины. – Минск, 1994. – С. 37-40. Ліўшыц, У. Подзвіг юнага партызана / У. Ліўшыц // Ленінскі шлях (Горкі). – 1986. – 17 мая. Гапонова Надежда Гладкая Майя Ефимовна
×
ГЛАДКАЯ МАЙЯ ЕФИМОВНА
В 1955-1993 гг. работала заведующей Панкратовской сельской библиотекой. Внесла значительный вклад в развитие библиотечного обслуживания. В 1978-1993 гг. библиотека являлась школой передового опыта по пропаганде краеведческой и белорусской литературы. Библиотека тесно сотрудничала с Панкратовской СШ и в 1979 году Могилевской детской библиотекой им. А. Гайдара и областным отделением добровольного общества книголюбов был обобщен опыт работы библиотеки по пропаганде библиотечно-библиографических знаний среди школьников. Библиотека неоднократно удостаивалась звания «Библиотека отличной работы». В 1970 году Панкратовская сельская библиотека была удостоена Диплома Министерства культуры БССР и Белорусского республиканского комитета профсоюза работников культуры в связи со 100-летием со дня рождения В. И. Ленина, в 1973 году награждена Дипломом Министерства культуры Белорусской ССР за успехи, достигнутые в ходе Республиканского смотра, посвященного 50-летию образования СССР, в 1974 году награждена Диплом управления культуры Могилевского облисполкома, Почетная грамота управления культуры Могилевского облисполкома (1990). Депутат и член исполкома Добровского сельского Совета (1973, 1975). Награждена медалями «За доблестный труд» (1970), «Ветеран труда» (1985), нагрудным знаком «Активный пропагандист книги» (1970), Почетной грамотой Горецкого КПБ за достижение наивысших результатов во всесоюзном социалистическом соревновании в честь 70-летия Великой Октябрьской Социалистической революции (1987). Давыденко Николай Григорьевич Захаркина (Лабковская) Наталья Ивановна
×
ЗАХАРКИНА (ЛАБКОВСКАЯ) НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 
Литература Липинская, А. «Вновь память сердце бередит…» / Алина Липинская // Ленінскі шлях (Горкі). – 2007. – 4 красавіка. – С. 3. Исаков Андрей Васильевич
×
ИСАКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Участник подпольного и партизанского движения в Горецком районе. Награжден медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды. После войны жил в нашем городе.
Литература Войстров, Д. Ф. В горецком редколесье / Д. Ф. Войстров. – Минск : Беларусь, 1986. – С. 90. Галковская, Я. Юные мстители : [о пионерах-героях Горецкого района] / Яна Галковская // Горацкі веснік шлях (Горкі). – 2015. – 9 23 красавіка. – С. 2. Исаков Андрей Васильевич // Память народа. 1941-1945. [Электронный ресурс] : электронный банк документов периода Великой Отечественной войны / Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. – Москва, 2018–2022. – Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1515314599/ Искров Леонид Владимирович Калиновская Полина Николаевна Колачев Анатолий Александрович
×
КОЛАЧЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Литература Калачоў, А. Наша “дзіцячая” вайна / А. Калачоў // Чырвоная змена. – 1998. – 8 мая. – С. 3. Колтунов Петр Яковлевич
×
КОЛТУНОВ ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ 
Литература Середникова, Г. Вкус детства (продолжение) : [воспоминания о военном детстве жителя деревни Ректа Колтунова Петра Яковлевича] / Галина Середникова // Региональные ведомости. – 2014. — 19 марта. — С. 2. Эхо нашей Победы : к 70-летию освобождения Беларуси и Горецкого района от немецко-фашистских захватчиков: [очерки, рассказы, стихи, поэма] / составитель Л. Н. Дерюжкова] / Галина Середникова // Горький вкус детства. – Минск : Белпринт. – 2014. — С. 135-140. Конышко Елена Давыдовна Коробова Майя Филипповна Косяков Владимир Михайлович Лукутин Виктор Федосович Михеева (Трубилина) Марфа Митрофановна Новиков Николай Павлович Павлов Иван Стефанович
×
ПАВЛОВ ИВАН СТЕФАНОВИЧ
Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».
Литература Павлов Иван Стефанович // Память народа. 1941-1945. [Электронный ресурс] : электронный банк документов периода Великой Отечественной войны / Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. – Москва, 2018–2022. – Режим доступа: //pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1514191571/. Павлов Иван Стефанович // POISK.RE / Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. [Электронный ресурс] : электронный банк документов периода Великой Отечественной войны / по материалам Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО). – Москва. – Режим доступа: https://poisk.re/awards/cards/1100523783. Потупчик Владимир Антонович
×
ПОТУПЧИК ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ
Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».
Прищеп Василий Фадеевич Прокопова Алла Михайловна Раскина Ася Михайловна Рыльков Владимир Савицкий Василий Илларионович Седлухо Антон Петрович Стамбровский Герасим Тумилович Ирина Фомченко Виктор Владимирович
×
ФОМЧЕНКО ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Участник партизанского движения в Горецком районе, член подпольной группы, минер-разведчик партизанского отряда «Звезда». Родился 12 апреля 1925 года в деревне Рекотка Горецкого райна. Заслуженный учитель БССР (1968). В партизанском отряде с 5 сентября (по другим источникам – с 7 октября) 1942 года. В 1943 году находился в группе специального назначения партизанской бригады «Вперед», действовавшей в Могилевском, Кировском, Славгородском и Быховском районах. В октябре 1943 года после соединения партизан с частями Красной Армии становится командиром минометного расчета 617-го стрелкового полка. После войны, с 1945 года работал учителем, директором Панкратовской средней школы (1951-1986). Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (1985), орденом Отечественной войны 2-й степени (1945), медалями. Отличник народного образования БССР, отличник образования СССР. Участник 5-го и 6-го съездов учителей БССР. Послужил прототипом одного из героев книги А. Суслова «Сердце в плен не сдается» (1998). Умер в декабре 2014. 
Литература Асмалоўскі, А. В. Моцныя духам / А. Асмалоўскі // Народная асвета. – 1983. – № 12. – С. 6-8. Детликович, П. Фомченко – семья партизанка : [о Владимире Петровиче Фомченко и его сыновьях – Григорие и Викторе Фомченко] / Петр Детликович // Огни над Проней : Горки в лицах / Петр Детликович. – Минск : Белпринт, 2012. – С.81-88. Минина, Л. Человек – легенда / Л. Минина // Ленінскі шлях (Горкі). – 2005. – 16 красавіка. – С. 2. Осмоловский, А. Все так и было / А. Осмоловский // Ленінскі шлях (Горкі). – 2000. – 18 сакавіка. Осмоловский, А. Свой миномет он сменил на указку учителя... / А. Осмоловский // Могилевская правда. – 2000. – 14 апреля. – С. 5. Фомчанка Віктар Уладзіміравіч // Памяць : гісторыка-дакументальная хроніка Горацкага раёна. – Мінск, 1996. – С. 348. Фомчанка, А. Нізкі вам паклон, ветэраны! / Аляксандр Фомчанка // Настаўніцкая газета. – 2010. – 15 красавіка. – С. 4. Фомченко Виктор Владимирович // Партизаны Беларуси [Электронный ресурс] : спецпроект Издательского дома «Беларусь сегодня» и Национального архива Беларуси. – Минск, 1998–2023. – Режим доступа: https://partizany.by/partisans/76978/ . – Дата доступа: 11.01.2021. Фомченко Людмила Фомченко Таисия
×
ФОМЧЕНКО ТАИСИЯ 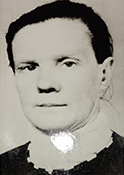
Отец и братья Таси ушли в партизанский отряд в 1942 г. Тася с сестрой носили им продукты, одежду собирали нужные сведения. Осенью 1943 г. вместе со всеми жителями д. Рекотка бежали от фашистов в лес. Однажды после налета карателей они остались одни. Несколько дней сестры Тася и Люда сидели голодные в полуразрушенной землянке, здесь их нашли партизаны 115-й бригады и забрали с собой. Сестрам пришлось испытать все трудности суровой партизанской жизни: недосыпать, недоедать, участвовать в боях с фашистами. Тася была свидетелем гибели Жени Воробьева.
Черников Федор
×
ЧЕРНИКОВ ФЕДОР 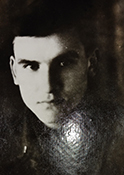
Школьник Савской школы Горецкого р-на, партизан 17-й бригады. Пионер Федя Черников был связным партизанского отряда, а в мае 1943 года стал партизаном 17-й бригады. Отлично выполнял ответственные поручения. Вместе со взрослыми мужественно сражался с оккупантами. После соединения с частями Советской Армии попал на фронт. В одном из боев был тяжело ранен, потерял руку. После войны учился и работал в г. Кирове. Умер в 1981 году. Брат Феди, Иван Ермолаевич Черников, советский разведчик, капитан, погиб в г. Млава Республики Польша. Его имя носят школа и улица в г. Млава, а также одна из улиц нашего города.
Литература Галковская, Я. Юные мстители : [о пионерах-героях Горецкого района] / Яна Галковская // Горацкі веснік шлях (Горкі). – 2015. – 9 23 красавіка. – С. 2. Шаврова (Шырко) Эмилия Васильевна
×
ШАВРОВА (ШЫРКО) ЭМИЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА 
Шырко Эмилия Васильевна родилась 28 декабря 1928 г. в г. Горки Могилевской области. До войны жила с родителями в г. Ория Витебской области. Девочка училась в Оршанской средней школе № 1. Во время Великой Отечественной войны находилась в Горках Могилевской области у родственника-подпольщика Громыковского М.И. С октября 1942 г. жила в д. Селец Горецкого района в доме партизанки-связной Степановой У.А. Эмилия была связной партизанской группы отряда Ленчикова, затем разведчицей 115-й Горецкой партизанской бригады Могилевской области. С 6 сентября 1943 г. находилась в 115-ой партизанской бригаде (Горецкий район Могилевского области). 2 декабря 1943 г. погиб отец девочки на задании. С 1944 г. продолжила учебы в Орше, после работала и заочно училась в Белорусском государственном университете им. В.И. Ленина. Работала учительницей в Гродненской, Брестской, Ровенской областях, в г. Киеве, с июля 1963 в г. Саки Крымской области, куда был направлен ее муж – Шавров Марс Александрович (воспитанник разведроты 94-й отдельной стрелковой бригады 23-й армии Ленинградского фронта) после окончания Киевской высшей школы партийной школы при ЦКПА Украины. В Сакском районе работала 16 лет. Окончила Сакский филиал университет марксизма-ленинизма при Симферопольском горкоме Компартии Украины. Эмилия Васильевна Шаврова (фамилия после замужества) награждена орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны» I степени, «За Победу над Германией в 1941-1945 гг.» и другими. 20 февраля 1985 г. приказом №69 Эмилия Шаврова зачислена в Батальон белорусских орлят. За добросовестный педагогический труд награждена значком «Отличник народного образования», а в 1982 году было присвоено звание «Заслуженный ветеран педагогического труда». Вместе с мужем Шавровым Марсом Александровичем воспитали сына - Шаврова В.М., который в дальнейшем работал инженером-судостроителем.
Литература Шаврова Эмилия // Живая память поколений [Электронный ресурс] : военно-патриотический проект Могилевской областной библиотеки к 75-летию освобождения Беларуси и Могилевской области от немецко-фашистских захватчиков. – Могилев. – Режим доступа: https://sites.google.com/view/living-memory/я-помню/партизаны/шаврова-эмилия. Шаврова Эмилия Васильевна // Партизаны Беларуси [Электронный ресурс] : спецпроект Издательского дома «Беларусь сегодня» и Национального архива Беларуси. – Минск, 1998–2023. – Режим доступа: https://partizany.by/partisans/250029/. Шаврова Эмилия Васильевна // POISK.RE / Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. [Электронный ресурс] : электронный банк документов периода Великой Отечественной войны / по материалам Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО). – Москва. – Режим доступа: https://poisk.re/awards/anniversaries/1522540968. Шахненко Федор Иванович
×
ШАХНЕНКО ФЕДОР ИВАНОВИЧ 
Школьник Савской школы Горецкого р-на, партизан 17-й бригады. В августе 1943 года участвовал в диверсионных операциях на ж/д Могилев-Кричев. Участвовал в боевых заданиях по подрыву рельс и операции по разгрому вражеского гарнизона в д. Михеевка. В 1943 году награжден медалью партизана Отечественной войны II степени.
Литература Галковская, Я. Юные мстители : [о пионерах-героях Горецкого района] / Яна Галковская // Горацкі веснік шлях (Горкі). – 2015. – 9 23 красавіка. – С. 2. Шахненко Федор Иванович // Книга Памяти Ставропольского края. [Электронный ресурс] : электронный банк документов периода Великой Отечественной войны / Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова. – Ставрополь, 2013. – Режим доступа: http://книга-памяти.рф/entity/207996. Шахненко Федор Иванович // Партизаны Беларуси [Электронный ресурс] : спецпроект Издательского дома «Беларусь сегодня» и Национального архива Беларуси. – Минск, 1998–2023. – Режим доступа: https://partizany.by/partisans/34159/. ×
Я помню начало войны Когда началась война, немцы очень сильно бомбили город. Много зданий было разрушено. Не пострадало только первое общежитие, где затем расположился немецкий штаб. Несмотря на войну, я пошел в первый класс. Наша двухэтажная школа располагалась на нынешней площади Якубовского. Проходил я в школу не долго, около полутора месяцев. Помню, как в класс зашли немцы и стали искать еврейских детей, или похожих на них. Кого нашли, того и забрали. К сожалению, я не помню фамилию своей первой учительницы. А звали ее, кажется, Нина. А вот судьба ее после войны сложилась трагически. За то, что она при немцах работала в школе, ее обвинили в сотрудничестве с немцами и арестовали. О дальнейшей ее судьбе ничего не знаю. Наша семья проживала на улице Оршанской. Название улиц при немцах осталось прежним. Во время оккупации мои родители нигде не работали. Жили за счет того, что у нас был свой огород. Жили очень бедно. Осенью 1942 года немцы стали сгонять мирных жителей с окрестных деревень, а также часть населения Горок. Наша семья не стала исключением. Нас погнали в сторону Орши. Мы шли через лес в сопровождении немецких солдат. В Орше нас разделили: часть людей отправили в Германию, а часть оставили в Орше в лагере для военнопленных. Этот лагерь находился на территории, где после войны был построен автовокзал. Лагерь был окружен колючей проволокой. В лагере все взрослые работали лесоповале, подростки топориками обрубали сучки на лесозаготовках. А те, кто для работы не годился, были предоставлены сами себе. Нас, детей, немцы выпускали за пределы лагеря, и мы бродили по городу. В лагере мы прожили до 1944 года. Однажды, на рассвете ударили «Катюши». Стало очень страшно. Мы не понимали, что происходит. Немцы оставили лагерь, и мы сбежали. Н. Г. Азаренко ×
Детские кошмары снятся до сих пор... Воспоминания 12-летней девочки преследуют ее всю последующую жизнь, заставляя глаза плакать. А в ушах стоит предсмертный стон сотни человек, не позволяя спокойно уснуть. На второй год войны в деревню Напрасновка Горецкого района, скрываясь от фашистских зверств, потянулись десятки евреев из Горок и Орши. В надежде на то, что в глуши окружающих лесов смогут уберечь себя и своих детей от гибели. Там оседали, пытаясь прокормиться с местными сородичами… …Их всех согнали в несколько хат, стоящих рядом и окружили плотным кольцом полицаев и немцев из карательного отряда. При этом, была дана команда взять с собой еду и одежду на несколько суток. У людей еще оставалась надежда. А местные жители деревни Шепелевка с окраины деревни уже наблюдали, как полицаи копали возле большака огромную яму. После полудня следующего дня, под предлогом вывода на работу, евреев погнали к яме. Они издали увидели свежевскопанную землю и по колонне прокатился рев ужаса. Люди пробовали бежать, но натыкались на направленные на них стволы автоматов. Когда конвоируемые подошли к котловану, немцы приказали раздеться. Даже здесь фашистская «машина уничтожения» работала рационально, одежду – на переработку. Маленькая Катя видела, как ее одноклассники обреченно машут руками. Страх заставил ее прижаться к покосившемуся сараю, но она не могла отвести полные ужаса глаза от происходящего. Грохот автоматных очередей слился с предсмертными криками. И опять немцы оказались «бережливыми» – маленьких детей не расстреливали, а экономя патроны, бросали в могилу живыми. Колхозный сторож (имени не помнит), когда на его глазах казнили жену и детей, сошел с ума. Его убили последним. Ведь нелюдям было весело смотреть, как искалеченный человек танцует на трупах своей семьи. Могилу закопали, свежезасыпанный грунт еще долго «дышал», погребая под собой полумертвые тела и слышался стон, как будто стонала от невообразимых зверств сама земля. Из той деревни в живых остался только трехгодовалый мальчик, по счастливой случайности гостивший в соседнем селе. После зверств карателей, семья Екатерины подалась в беженцы и нашла приют в Хоминичах. Днем издевались немцы, а ночью — все, кто имел оружие или был сильнее. Кормились подаянием, щавелем, да цветами клевера. Когда гитлеровцы поймали троих партизан и на допросах выбили показания о сообщниках, чуть не погибла тетя девочки — Люба. Пленные признались, что у одной из женщин, помогавшим партизанам, был вставной зуб. Его пришлось выбить. А вот вторую девушку фашисты нашли и повесили. В первые дни освобождения Белоруссии при появлении советских солдат, радость усердно скрывали. Боялись, что это очередная уловка оккупантов и так ищут непокоренных. Поверив — долго плакали от радости. После войны Екатерина Титовна Баранаева за работу звеньевой в колхозе была награждена орденом Трудового Красного Знамени. И. Журов ×
Сын палка …Не адзін тэрмін у часы «Дошак пашаны» правісеў ля канторы саўгаса «Старасельскі» на ганаровым стэндзе партрэт каваля Івана Платонавіча Баркоўскага. Пажылы чалавек з адзнакамі ўдзельніка Вялікай Айчыннай вайны. Прыцягнула ўвагу, што такія, як ён, даўно ўжо на заслужаным адпачынку. Аказалася, Іван Платонавіч 1932 года нараджэння. І вось трымаю ў руках яго чырвонаармейскую кніжку. Сумняваюся, што пры сціпласці яе гаспадара многія, нават суседзі, асабліва з маладых, ведаюць аб гэтым чалавеку такія падрабязнасці. Дата прызыву – верасень 1943 г. (добраахвотнік). Спецыяльнасць да прызыву – навучэнец. Адукацыя – 2 класы. Праходжанне службы – выхаванец, разведка брыгады. Званне і пасада – малодшы лейтэнант. Узнагароды – медаль «За адвагу» (студзень 1944 г.). Усе гэтыя запісы зроблены, калі байцу Баркоўскаму было адзінаццаць-дванаццаць год. Што ж за імі? Разам з многімі аднавяскоўцамі сям’я інваліда Платона Баркоўскага летам сорак першага апынулася ў акупацыі. Аднолькава цярпелі фашысцкую няволю. Бедавалі. Хавалі яўрэйскую сям’ю. Звыкаліся з пастаянным страхам перад чужынцамі і іх служкамі, і з нецярпеннем чакалі сваіх. А такая надзея з цягам часу станавілася ўсё відавочней. Пад восень сорак трэцяга з боку Смаленшчыны і да іх Пузікаў нярэдка даносіліся грымоты кананады. Бліжэй і бліжэй, яны радавалі і непакоілі – надта ўжо ўспалашыліся немцы. Рабавалі апошняе, мініравалі дарогі і пераправы. Чулі людзі, як напаследак спецыяльныя каманды з чэрапамі на рукавах паляць вёскі, нішчаць усё жывое і нерухомасць. Таму ўпотай усе рыхтаваліся. Прыстасавалі і Баркоўскія на сваім агародзе невялікі бліндажык. Упакавалі на калёсы, балазе ўцалеў падараваны некалі адступаючымі чырвонаармейцамі кульгавы конь Лысік, немудроны хатні скарб. Прыкмецілі патаемныя мясціны ў акрузе, дзе можна было б укрыцца ад снарадаў і чужынцаў у крайнім выпадку. Так яно і здарылася. Калі ўжо загрымела зусім побач, а немцы сталі зганяць калоны для адпраўкі ў бежанцы, многія змаглі такім чынам уратаваць свае сем’і. у апошні момант кінуліся і Баркоўскія. Ды як на ліха некуды прапаў Лысік. Бацька махнуў рукой на ўсё, каб уберагчы малых. Але Ваня ніяк не мог змірыцца са стратай любімца-каня. У бліжэйшым хмызняку ён увярнуўся ад пільнага вока бацькоў і знаёмымі раўчукамі прабраўся да вёскі. Яна ўжо кіпела ад выбухаў. – Трое сутак, успамінае, прасядзеў у бліндажы на сваім агародзе. Чуў, як немцы застрэлілі напаследак свінню, крушылі нешта на падвор’і. Потым усё прыціхла. Пад вечар рызыкнуў вылезці – выгнаў нясцерпны голад. Тут і ўбачыў нашых. Група байцоў накіроўвалася да замініраванага мосціка цераз рачулку. Як было ўстаяць? Прыкмеціў жа кожную мясцінку, дзе корпаліся нямецкія сапёры. Кінуўся туды. Папярэдзіў адных. Непадалёку перапраўляліся другія – там таксама небяспечна. Ірвануў цераз лугавіну. І выбух… Апрытомнеў у шпіталі. Аказалася, ранены ў нагу. Неўзабаве прыйшлі байцы. Пазней даведаўся, што гэта тая самая часць, што вызваляла іх вёску, адведзеная ў Манастыршчыну на папаўненне. Камандзір батальёна Крапівін пасля няўдалых спроб штосьці даведацца аб родных Вані прапанаваў яму нейкі час пабыць пры часці, пакуль стабілізуецца франтавая паласа і крыху паспакайнее абстаноўка. Толькі вядома, што фронт затрымаўся паблізу тых мясцін на доўгія дзевяць месяцаў. Так пачалася для выхаванца брыгады Вані Баркоўскага доўгая дарога па вайне. Жыццё – штука вірлівая. За рознымі яго перакрыжаваннямі засталіся многія ўспаміны аб тых людзях і падзеях. Толькі і цяпер сціскае сэрдца, калі сны ці памяць выносяць знаёмыя некалі вобразы салдат і камандзіраў, што прайшлі праз лёс. Не скрывае былы юны салдат, што ўсе яны ад ротнага повара да брыгаднага «Баці» аберагалі, як маглі, нават песцілі. Але служба ёсць служба, і вайна не разбірае ўзросты. Гінулі дарослыя сябры, загінуў такі ж як і ён выхаванец брыгады сябрук Валодзя Векслер. Было гэта пад Ясамі. Надта непакоіў камандаванне брыгады сакрэтны аб’ект, што ўзводзілі немцы ў лесе ў паласе іх наступлення. Адтуль ужо не вярнулася група разведчыкаў з сямі чалавек. Камандзір брыгаднай разведкі маёр Фок не адразу згадзіўся на просьбу выхаванцаў адправіць іх у разведку. Але, пэўна, лепшы варыянт знайсці было цяжка. Такіх беспрытульных хлапчукоў тады хапала па абодва бакі прыфрантавой зоны. Можа пранясе. Пранесла. Патрэбныя звесткі былі сабраны. Аб’ект аказаўся добра замаскіраваным аэрадромам. Прабіраючыся назад, не прамінулі зацерціся ў распалажэнне абслугоўваючай яго каманды. Валодзю тут прыглянуўся планшэт каля ўмывальніка паблізу афіцэрскай сталоўкі. Праз нейкае імгненне ён ужо быў у руках. Ды тут раздаўся выстрал. Валодзя ўпаў. Ваню ўдалося выбрацца незаўважаным. Праз некалькі дзён яго, голага і знясіленага, падабралі на нашым беразе Прута незнаёмыя байцы. Пароль зрабіў адпаведную справу, і юнага разведчыка ў суправаджэнні аховы неадкладна пераправілі ў брыгаду. Разведданыя аказаліся вычарпальнымі, і паветраны ўдар ворага быў папярэджаны. Іван Платонавіч памятае, што яго тады прадстаўлялі да ордэна Чырвонай Зоркі. Але ў ходзе Яса-Кішынёўскай аперацыі ад брыгады амаль нікога не засталося, і прадстаўленне на ўзнагароду, бачна, таксама дзесьці страцілася. У парадку адступлення. Аўтар гэтых радкоў зрабіў афіцыйны запыт наконт паслужнога пацверджання І. П. Баркоўскага ў Цэнтральны архіў Міністэрства абароны былога СССР. Усе даныя дакументальна пацверджаны. Акрамя ордэна Чырвонай Зоркі. Хаця 18 гвардзейская мехбрыгада як вайсковае падраздзяленне захавалася і па верасень сорак пятага ўваходзіла ў склад Дзеючай арміі, многае, безумоўна, загінула разам з яе былым асабовым саставам. У складзе гвардзейцаў працягваў ваяваць і Ваня. Пасля фарсіравання ракі Прут яму было прысвоена званне малодшага сяржанта. У Аўстрыі ў трыццаці кіламетрах ад Вены ён сустрэў доўгачаканую Перамогу. Неўзабаве пачалася дэмабілізацыя. Адным з першых давялося развітацца са стаўшай роднай брыгадай малодшаму сяржанту Івану Баркоўскаму. Камандаванне накіроўвала яго ў Маскву ў сувораўскае вучылішча. А франтавікі снараджалі ў дарогу, як роднага сына. Давалі строгі наказ вучыцца і не забываць франтавое братэрства. Толькі і тут лёс распарадзіўся па-свойму. Дабраўшыся да сталіцы, Іван захварэў тыфам. Калі ж акрыяў – набор на той год быў закончаны. Ды і нясцерпна пацягнула ў родныя краі. Да таго часу не ведаў нічога ні аб бацьках, ні аб сваіх Пузіках. А перад вачамі стаялі тысячы бачаных на вайне смерцяў і папялішчы былога чалавечага жылля. Таму якой жа радасцю было сустрэць неўзабаве сваю сям’ю. Так і асеў на родным падвор’і да сённяшняга дня. Працаваў на розных саўгасных работах. Потым стаў кавалём у цэнтральнай майстэрні. Вырасціў дзяцей. Нідзе не пасароміў гонару франтавіка, не здрадзіў памятнаму наказу баявых сяброў-выхавацеляў і ўласнай памяці. А ў цяперашнім калгасе «Старасельскі» застаецца па-ранейшаму адным з лепшых працаўнікоў, хаця другі год ужо на заслужаным адпачынку. М. Панкратаў, 1993 г. ×
Из воспоминаний о войне Моим дорогим наследникам Июнь. Разгар лета. Солнце светит высоко в небе. Ни единого облачка. Каникулы. Я закончила шесть классов. Спокойно текла беззаботная жизнь сельских ребятишек. Поселок Супшинка в Белыничском районе, где проходило мое детство, был невелик, всего одиннадцать домов. Улица широкая, по обе стороны высажены два ряда деревьев. Домики и усадьбы огорожены орешниковым частоколом. В ста метрах от поселка на юг – небольшой лес, а на север, как у нас называли, пуща. Летом в деревне с дерева на дерево прыгали белки. Словом, место было красивое, спокойное. Только бы и наслаждаться красотой природы да слушать пение птиц. Но вдруг будто прогремело страшное слово: «война». Что это такое тринадцатилетнему подростку было не понять. Жизнь как-то сразу померкла, с лиц людей исчезли улыбки. Вскоре колхозный скот стали угонять на восток, чтобы не достался врагу. А через месяц на наших дорогах появились мотоциклисты в военной форме с автоматами на груди. В первую очередь они разбили окна, разломали двери в магазине и школе. Взяли все, что им приглянулось, а книги из школьной библиотеки разбросали по полу. И уехали. Ходили слухи, что немцы распустили тюрьмы. В деревне Новоселки (центральная усадьба нашего колхоза) появился трижды судимый за воровство Малашков. Его немцы поставили бургомистром, а разное отребье из других деревень стали полицаями. Каждую неделю в деревне собирали по̀дать для «новой власти»: яйца, мясо, муку, хлеб. И пошла жизнь «по-новому». Самый цвет деревни, мужчины в сорок и более лет: председатель сельского Совета, завмаг, директор школы и другие были вывезены в лес и расстреляны. В семи километрах от нашего поселка располагалась местечко Головчин. До войны там жило много евреев. Малашков с другими немецкими прихвостнями вывезли всех и расстреляли. Потом негодяй ходил по деревне и похвалялся, что, добивая евреев в яме, ходил по колено в крови. Несколько раз приезжал Малашков и к нам, ставил отца к стене, стрелял чуть выше головы и кричал, что убьет за укрывательство евреев. Дело в том, что до войны у нас жила на квартире учительница-еврейка. Вышла замуж за белоруса из Дрибинского района. Родился мальчик. Мы его смотрели. В первые месяцы войны мой отец направил их к родителям мужа. Какие только не совершались зверства! Только и было слышно, что Малашков убил человека то там, то в другом месте. Молодежь силой отправляли на работу в Германию. Несколько раз мою старшую сестру Олимпиаду забирали в волость для отправки в Германию. Мать ходила с салом и самогоном ее выручать. Через год у нас начали организовываться партизанские отряды для борьбы с оккупантами. Из нашей деревни Гришанов (имя и отчество, к сожалению, не знаю) был до войны в Шклове секретарем райкома партии, перевел тридцать фронтовиков через линию фронта. Довел их до нашей пущи, а из нее до деревни Голубовка по комсомольскому поручению их провела моя сестра. Так появился в Белыничском районе партизанский отряд под командованием Липского. Моей сестре в то время только исполнилось восемнадцать лет. Два с половиной года она была связной 40-го партизанского отряда бригады 122 «За Родину». Направляла ребят в партизаны, доставала и передавала в отряд оружие и медикаменты. У нас в доме тайком лечили раненых партизан. Когда стало невозможно жить дома, сестра ушла в партизаны. По ее поручению я ходила с письмом в указанные ей деревни. При мне была ампула морфия. Только повзрослев, я поняла, что носила с собой смерть. Родители об этом ничего не знали. Когда партизанам стало известно, что Малашков готовится расстрелять еще нескольких жителей из деревни Новоселки, а также нашу семью, они ночью подогнали лошадь к дому и сказали немедленно уезжать. Мы уехали. Жили в лесу за деревней Техтин Белыничского района, там, где он переходит в Беловежскую пущу. В 1943-44 годах партизаны вели жестокую войну с гитлеровцами. Взрывали железнодорожное полотно, нападали на немецкие гарнизоны. Фашисты решили избавиться от партизан. Цепью, в пяти метрах друг от друга, пошли в наступление. Партизаны были вынуждены бросить свои землянки и уйти дальше вглубь леса. Остались только старики. Нас троих, отца, маму и меня фашисты забрали из землянки вместе с другими людьми. Привезли в Техтин и закрыли на замок в школе. Назавтра подогнали машины, вывели нас из школы, разделили на две группы: на стариков и трудоспособных. Молодых посадили в крытые машины и повезли в Белыничи, потом в деревню Нежково. Там мы ночевали в сарае, закрытые на замок. Был сильный мороз. На утро следующего дня снова посадили в машины и отвезли в Могилев в перевалочный лагерь, который находился на территории завода «Возрождение», сейчас «Строммашина». Дали раз поесть баланды и перевели в третью школу на Ленинскую улицу. Неделю я вместе с другими людьми находилась в этом лагере. В бывших классах стояли трехъярусные нары, застланные соломой. В соломе и на стенках водились скопища вшей. Каждое утро под дулом автомата нас выводили на работу пилить дрова. Куда я не знаю. Я впервые тогда была в Могилеве. Вечером давали сто граммов хлеба и баланду. Так я пробыла в лагере неделю. 27 февраля 1944 года утром нас посадили в машины и отвезли на железнодорожный вокзал. Посадили в вагоны, а ночью 28 февраля отправили в Германию. В ту страшную ночь далеко не все уехали на чужбину. В вагонах с мужчинами сидели фашисты с автоматами. Мужчины перебили немцев, проломили дверь в вагоне и на ходу выскочили. В нашем вагоне немцев не было. Одна женщина, которая до этого 4 раза была в плену, как-то сказала, что было бы хорошо, если бы у нас был топор. Я предложила свой, который был спрятан в моем узелке. Женщина сделала к нему ручку из палок для топки печки-буржуйки. Выбила стекло, перерубила проволоку на чеке вагона, поднажала и отодвинула дверь, всем представилась возможность выбраться. В то время лес был вырублен на триста метров от железнодорожного полотна. А дорога как никогда охранялась немцами. Каждые пять метров стояла охрана. Первые два человека выскочили из вагона, и попали в руки немцев. Я выпрыгнула третьей. Немцы стреляли ракетами. Лаяли овчарки. Это было под Оршей, недалеко от деревень Бортки и Церковище. Очнулась я быстро, еще не отошел последний вагон. Поползла в лес. Всю ночь я бродила, пока не выбралась на опушку. Вижу – деревня. Первая мысль была пойти в деревню. А вдруг там немцы? Около обеда я увидела в лесу подводу, быстренько спряталась под елку. Когда повозка подъехала ближе, я увидела двух женщин, которые были со мной в вагоне, и незнакомого мужчину. Я поднялась и побежала за ними. Оказалось, они раньше подошли к деревне, не побоялись. Им рассказали, что немцы сильно охраняют железную дорогу, но в 12 часов они ходят на обед. Договорились, что мужчина довезет нас до опушки леса, высадит и дальше поедет один. Если немцев не будет, он даст нам знак, и мы перейдем дорогу. Если же фашисты будут на посту, он попытается переправить нас ночью. Нам повезло. Немцы обедали. Мы быстро перебежали железную дорогу и разошлись, кто куда. Я пошла на свою родину, хотя там моих родителей не было. Переночевала в семье своего дяди. Назавтра меня приютила семья крестного отца. Они вытопили баню, и я помылась, а рано утром пошла навстречу с родителями. Снова в лес. Был март 1944 года. В родную деревню мы вернулись 28 июня 1944 года. Г. Бобкова, ×
Юныя мсціўцы Валодзя Васільеў быў сувязным атрада, у якім знаходзілася яго маці — Ульяна Васільева, і брат Апанас, які потым камандаваў атрадам. Па заданню брата Валодзя не раз хадзіў у разведку ў Горкі. Спыняўся ён заўсёды ў сваёй цёткі, якая жыла на тэрыторыі БСГА, дзе ў час вайны размяшчаліся фашысты. Валодзя хадзіў па вуліцах горада, да ўсяго прыглядаўся і прыслухоўваўся, а затым перадаваў патрэбныя звесткі брату. Аднойчы фашысты акружылі дом Васільевых у Палёнцы і спалілі яго разам з бацькам. Валодзю ўдалося ўцячы. Пры выкананні задання трапіла ў гестапа маці Валодзі. Фашысты патрабавалі, каб яна паведаміла месца знаходжання атрада. Жанчына загінула, але нічога не сказала фашыстам. Валодзю схапілі ў дарозе, калі ён ішоў на чарговае заданне. Яго доўга мучылі, а затым павесілі ў Горках. Вольга Гулевіч ×
Ребята из деревни Паленка — Хлопцы, глянь-ка сюда! Винтовку нашел! — радостно и громко, так, что эхо по лесу покатилось, закричал Коля Васильев. —Тихо ты! — строго сказал Володя и тут же ладонью прикрыл ему рот. — Услышит кто-нибудь, донесет бургомистру, тогда всем нам на орехи достанется. Нашел — и молчок! Вон смотри, Шитик давно гранату таскает, а язык за зубами держит. — А чего там рот разевать? — услышав похвалу в свой адрес, совершенно по-взрослому отозвался Петя Шитиков. — Не гуляем же в третьего лишнего, а дело делаем. Этим далеко небезопасным делом ребята занимались уже больше месяца. С тех пор как отгремел бой возле Лихачевской МТС и под напором немецких автоматчиков отступили красноармейцы по узкой гребле через болото куда-то за железнодорожный полустанок Зубры, мальчишкам не сиделось дома. То вдоль берегов тиховодной Полны, то в лозняках возле поселков Гривец и Кукшиновка удавалось им отыскать потерянное отступавшими войсками оружие. Все, что попадало в их руки, перетаскивали ребята на заброшенный хуторок, находившийся в каком-нибудь километре от их родной деревни Паленка. Перетаскивали и тщательно прятали там в полуразваленном погребе, постепенно превращенном их усилиями в настоящий арсенал. И на этот раз их поиски за Лихачевской МТС оказались небезуспешными. Когда солнце начало клониться к горизонту ребята, прячась от лишних глаз в придорожных кустах, несли новое пополнение в свой погреб-тайник. — А слышали, хлопцы, говорят, что в Горках уже подпольщики объявились, — вполголоса сообщил друзьям новость Володя Васильев. — Маслозавод и еще что-то там взорвали... — Кто тебе говорил? — Брат Панас. Он, сам еще… — что-то хотел сказать друзьям Володя, но передумал и смолк на полуслове. — Что там еще твой Панас сказал? — поинтересовался Петя Шитиков. Но, так и не дождавшись от товарища ответа, махнул рукой: — Подумаешь, Панас говорил! Наш Тишка с Фокой Демьяновым тоже подпольную организацию создают Комсомольскую. И меня к себе приглашали… — Постой-постой! — теперь уже Володя зацепился за слова, случайно оброненные другом. — Так это ты, значит, рассказал комсомольцам про наш склад? — А что? — А то, что уже знает Фока, куда и зачем мы ходим. Позавчера встретил меня и говорит: «Молодцы ребята! Так и надо. Придет время — пригодятся ваши игрушечки. Вы только поосторожней там: сами случайно не подорвитесь...» Вот я и думаю: откуда Фоке знать про наш тайник? А это, выходит ты разболтал? — Так что из того? Свои же они хлопцы, — не стал отпираться Петя.— У них тоже кое-что уже собрано. И не только винтовки да гранаты, а даже самый настоящий «дегтярь» есть. — Ну-у-у! Вот это да! — снова, не удержавшись от восторга, громко воскликнул Колька Васильев. — Вот бы нам пулемет найти! Да патронов к нему с полтысячи. — Неплохо бы, — согласился Володя и, словно забыв о недавнем своем упреке, доверчиво глянул в Петины глаза. — Вот тогда можно было бы так немцев косануты!.. Не хуже, чем москвичам тогда удалось. Жаркая схватка батальона красноармейцев из 1-й Московской пролетарской дивизии, которые где-то в самом конце лета, оторвавшись от линии фронта и пробиваясь по тылам врага на восток к своим, столкнулись с немецкими обозниками возле переправы через Полну, надолго запомнилась жителям окрестных деревень. Тогда москвичи подсыпали фрицам такого перца, что мало кто из оккупантов сумел унести ноги от переправы. О том августовском бое возле Полны и вспомнил как раз Володя Воробьев. Судя же по тому, с каким восхищением все это было произнесено, Петя заключил, что товарищ не таит на него никакой обиды, наоборот, сам не против попасть в подпольную группу и действовать заодно с комсомольцами. — Я так и доложу Фоке и Тимоше, — как о чем-то давно решенном, сказал Петя друзьям, когда они приближались уже к своему тайнику. — Думаю, что они согласятся принять в свою подпольную организацию и нас троих. *** Немалые испытания выпали и на долю Володи Васильева. Его старший брат Афанасий Захарович, отец Захар Андреевич и мать Ульяна Филипповна с первых же дней оккупации влились в ряды активных борцов за свободу родной страны. Когда об этом узнали фашисты и их прихвостни — полицаи, то ре шили немедленно расправиться с семьей патриотов. Первая беда пришла в дом Васильевых сентябрьским днем 1942 года. Ульяна Филипповна накануне того дня ушла в соседнюю деревню к родственникам, и когда в Паленке появился карательный отряд, дома у Васильевых были только отец да Володька. Почуяв неладное, Захар Андреевич тут же отправил мальчика на поселок Гривец к знакомым и строго-настрого приказал не возвращаться домой, пока фашисты не уберутся из села. Оставшись в хате один, он быстро вытащил из-под пола припрятанную там винтовку, а затем стал у окна так, чтобы хорошо были видны ему калитка, ворота и часть улицы за ними. «Дешево я вам, гады, в руки не дамся!» — решительно подумал он, следя за тем, как приближались к дому фашисты И Захар Андреевич до конца остался верен своему решению: даже тогда, когда дом, подожженный карателями, свечкой пылал над его головой, прицельными выстрелами он продолжал разить врагов. В марте следующего года в лапы гестаповцев попала и смелая разведчица Ульяна Филипповна. Она стойко держалась на допросах и не выдала фашистам место расположения штаба 35-го партизанского отряда, в рядах которого сражались с гитлеровскими поработителями два ее сына — Афанасий и Владимир. — Мстить нам с тобою, дорогой братишка, надо за гибель родителей. Крепко мстить будем, — узнав об еще одной невозвратимой утрате, сказал младшему брату Афанасий Захарович. — Я — пулей и гранатой неустанно буду бороться с ними, а ты — зорким глазом своим. О зорком глазе Афанасий Захарович напомнил Володе не зря: с тех пор как пришел он в отряд и был зачислен во взвод разведки, не было, пожалуй, ни одной недели, чтобы не посылали Володю Васильева на боевое задание. То он ходил к автодороге Могилев — Орша, чтобы проследить за движением по ней вражеских автомашин, то пробирался к железнодорожному полустанку Зубры и вел там наблюдение за проходящими эшелонами — куда идут, что везут?.. Но чаще всего выпадала мальчику дорога в Горки. Оттуда, побродив по улицам городка, а затем посетив несколько конспиративных квартир, Володя Васильев всегда приносил командованию отряда немало ценных сведений. Неудача постигла юного разведчика в июле 1943 года В то время Красная Армия после битвы на Курской дуге начала развивать наступательные операции по всей линии фронта, a потому Центральный штаб партизанского движения потребовал от всех отрядов и бригад лесных воинов провести в самом начале августа единовременный удар по железнодорожным коммуникациям врага. Бойцы 85-го Горецкого партизанского отряда решили начать так называемую «рельсовую войну» серией диверсий на железнодорожном перегоне Орша — Кричев. К «железке», как всегда, первыми пошли разведчики. Группе, в которой был Володя Васильев, предстояло тщательно изучить обстановку в окрестностях станции Погодино. Во время выполнения боевого задания юный разведчик допустил небольшую оплошность, в результате которой попал в руки гитлеровцев. Володя Васильев не нарушил ни пионерской, ни партизанской клятвы — он мужественно боролся за свободу родной страны до конца. С презрением и ненавистью смотря на своих палачей, он героически перенес все испытания и не опустил гордой головы даже тогда, когда фашистские головорезы повели его на эшафот, сооруженный на одной из площадей Горок, и на глазах у согнанных сюда горожан повесили юного героя. Аркадий Кандрусевич ×
Ён быў патрыётам У заходняй частцы Горацкага раёна знаходзіцца невялікая вёска Палёнка. Тут у сям’і селяніна Захара Навумавіча Васільева 1 красавіка 1923 года нарадзіўся сын Афанасій. У вёсцы прайшло яго дзяцінства. З ёй і яе жыхарамі звязана ўсё яго далейшае жыццё, барацьба супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў, пасляваеннае мірнае будаўніцтва, аднаўленне і рост вёскі. Тады ў Палёнцы размяшчаўся сельскі Савет, медпункт, школа, сельмаг, а побач – Ліхачоўская МТС, якая аказвала значны ўплыў на перабудову сялянскага быту. У вёсцы ўзводзіліся новыя дамы, кіпела работа на палетках, людзі імкнуліся жыць добра і ствараць, нармальныя ўмовы жыцця для сваіх дзяцей. У іх мірнае жыццё ўварвалася вайна. 12 ліпеня 1941 года ў Палёнку прыйшлі нямецкія захопнікі. Фашызм прынёс разбурэнне, здзекі і насілле. Аднак людзі не пакарыліся лютаму ворагу. На восьмы дзень акупацыі ў Палёнцы стварылася маладзёжная падпольная арганізацыя, якую ўзначаліў сакратар камсамольскай арганізацыі Ліхачоўскай МТС Фака Мікалаевіч Дзям’янаў. У яе ўвайшоў і Афанасій Васільеў. Падпольшчыкі збіралі на палях баёў зброю, пісалі лістоўкі, дапамагалі салдатам, апынуўшымся на акупіраванай тэрыторыі, рыхтаваліся граміць захопнікаў і іх памагатых. Аб тым, што ў вёсцы дзейнічае падпольная група, ведала маці Афанасія – Ульяна Піліпаўна. Яна была паважанай у вёсцы жанчынай, шмат год узначальвала звяно па вырошчванню льну, мела залаты медаль сельскагаспадарчай выставы. Падпольшчыкам яна сказала: «Вы хлопцы ўжо дарослыя і на вашу долю выпала вялікае выпрабаванне. Будзе вельмі цяжка, можа каму прыйдзецца жыццё аддаць у смяротнай схватцы з ворагам, але мы абавязкова пераможам. Будзем знішчаць фашыстаў, пакуль ніводнага не застанецца на нашай зямлі. Толькі будзьце асцярожнымі, калі будзе што незразумела, прыходзьце, параімся». Словы Ульяны Піліпаўны глыбока запалі ў сэрцы маладых хлопцаў. Яны далі клятву, што будуць змагацца з акупантамі да поўнай перамогі. Палёнкаўскія падпольшчыкі прыступілі да актыўных баявых дзеянняў. Ціхан Шыцікаў, Іван Воранаў і Мікалай Дзям’янаў займаліся дыверсіямі – разбуралі масты, знішчалі лініі сувязі і г. д. Частка падпольшчыкаў, у тым ліку Афанасій Васільеў, займаліся разведкай, пісалі і распаўсюджвалі лістоўкі. Учынілі некалькі нападзенняў на калоны нямецкіх аўтамашын, на паліцэйскія гарнізоны. Калі ў вёсцы стала жыць небяспечна, падпольшчыкі ўліліся ў партызанскі атрад Фёдара Іванавіча Чабыкіна. Першым прыйшоў у атрад Афанасій Васільеў, за ім яго маці Ульяна Піліпаўна. Фака Дзям’янаў прывёў у атрад астатніх палёнкаўскіх падпольшчыкаў. Атрад Чабыкіна базіраваўся ў лесе паміж вёскамі Гулідаўка-Чапялінка-Тушавая. Партызаны рабілі засады на дарогах Горкі-Орша, Шклоў-Горкі, Орша-Магілёў, выводзілі са строю тэхніку і жывую сілу ворага. Калі ў партызан з’явілася ўзрыўчатка, пачалі падрываць цягнікі на чыгунцы. Афанасій Васільеў увайшоў у састаў групы падрыўнікоў. Ён добра ведаў мясцовасць і тайна праводзіў партызан да таго ўчастка, дзе было найбольш зручна падарваць варожы эшалон. Атрад Чабыкіна дзейнічаў у Горацкім, Шклоўскім, Дубровенскім і Аршанскім раёнах. Пазней партызаны з Палёнкі дзейнічалі ў саставе 17-й і 35-й партызанскіх брыгад. Яны былі смелымі разведчыкамі, падрыўнікамі, а Афанасій Захаравіч стаў камандзірам 2-га атрада 35-й брыгады. За асаблівыя адзнакі ў баях у 1944 годзе ён быў узнагароджаны ордэнам Леніна. Акупантам стала вядома пра партызанскую сям’ю Васільевых. У верасні 1942 года яны ўчынілі расправу над бацькам Афанасія Захарам Навумавічам. Фашысты акружылі дом і спрабавалі захапіць яго жывым. Захар Навумавіч не здаўся ворагам, адстрэльваўся да апошняга патрона. Тады фашысты падпалілі дом, у агні загінуў цяжка паранены Захар Навумавіч. Меньшы яго сын Валодзя выбег з ахопленага полымем дома, але гітлераўцы дагналі яго і забілі. У 1943 годзе пры выкананні баявога задання трапіла ў рукі гестапаўцаў маці. Яе прымушалі сказаць, дзе знаходзяцца партызаны. Ульяна Піліпаўна загінула, нічога не сказаўшы пра партызан. Цяжка перажываў Афанасій Захаравіч смерць бацькі, маці, брата. Яшчэ з большай адвагай біў ён захопнікаў, асабістым прыкладам натхняючы на барацьбу партызан свайго атрада. Пасля вызвалення роднай беларускай зямлі ад захопнікаў Афанасія Захаравіча накіравалі на работу па аднаўленню народнай гаспадаркі. Працаваў ён дырэктарам МТС, старшынёй сельскага Савета. У апошнія гады ён, інвалід, цяжка хворы, жыў у Горках. 3 студзеня 1992 года яго не стала. Нягледзячы на цяжкую хваробу, да апошніх дзён жыцця Афанасій Захаравіч праводзіў вялікую выхаваўчую работу сярод моладзі, часта бываў на сустрэчах у школах горада і раёна, у акадэміі. І. Стальмашонак, ×
Ребята из деревни Паленка Подпольной молодежной группе бывшего комсорга Лихачевской MTC фоки Демьянова, к сожалению, не удалось широко развернуть свою деятельность. Сразу же после нескольких диверсий, проведенных ими в начале 1942 года на железнодорожном перегоне Орша — Погодино, и нападения на полицейский участок в Зубрах оккупанты начали усиленно искать следы подпольщиков. Были схвачены и расстреляны учитель Папсуев, довоенные сельсоветские активисты Абаканович и Жариков, мельник Миронов. После этого, спасаясь от репрессий, ушли в партизанский лес почти все члены молодежной подпольной группы Демьянова. Друзья Коли Васильева также были с начала лета 1942 года в партизанском отряде Д. Ф. Войстрова, а он пока оставался в Паленке в качестве связного. Через него-то и решили партизаны передать грозное послание предателю Косматову, который пошел в услужение оккупантам и рьяно работал тогда на должности бургомистра железнодорожного поселка Зубры. Письмо Коля положил за пазуху и отправился в путь. Еще до войны мальчику не раз доводилось быть в Зубрах, а потому дорогу туда он хорошо знал. Добравшись до поселка и отыскав там нужный ему дом, мальчик выждал момент, когда бургомистр остался в своем кабинете один. Потом без стука вошел в дверь и очутился с немецким холуем с глазу на глаз. — Тебе что здесь надо, подшивалец? — оторвав взгляд от каких-то бумаг, строго глянул Косматов на вошедшего мальчика. — Да вот, пан бургомистр, на улице я случайно нашел какой-то пакет. А вдруг, думаю, что-нибудь важное в нем: надо начальству показать, — как и учили его старшие товарищи, отправляя в дорогу, без запинки сказал мальчик. — Почитайте, пан бургомистр. Может, пригодится. — Ну, давай сюда, — протянул Косматов руку навстречу конверту. — Где, говоришь, нашел? — Да там, недалеко от казарм полицейских… Передав пакет, Коля Васильев хотел было выйти из кабинета бургомистра, но, на его беду, дверь загородил неизвестно откуда взявшийся тучный полицай. — Попридержи-ка, Борейша, мальчика! — приказал под: чиненному Косматов. — Может, ценные бумаги спас, так награду хлопцу отвалим. Пораспускались разявы курьерские — пакеты терять начали!.. Но как только, вытащив из конверта лист, бургомистр пробежал первые строчки написанного, лицо его сразу же побагровело. — А-а, черт их побери! — гневно ударил по столу кулаком Косматов. — Нашлись мне советчики, что можно делать, а чего нельзя!.. Моя теперь власть и воля моя: как хочу, так и поступаю... Ты где взял эту пакость, повтори? — Нашел, пан бургомистр, — по-прежнему твердил свое Колька Васильев. — Прямо на улице конверт валялся... — Я тебе поваляюсь! Кровью Ты меня будешь харкать, паршивец! — До бешенства взвинтился Косматов. — А ну, Борейша, за жабры его возьми да в каталажку кинь! Посидит денек-другой, узнает, чем батоги пахнут, тогда развяжет язык!.. Целый день издевались полицаи над Колей Васильевым, добиваясь ответа на то, как попал ему в руки конверт с грозным партизанским письмом и откуда сам он, сопляк, родом-племенем? Но у мальчика был один и тот же ответ: «Бумаги нашел возле полицейской казармы. А родом — из Смоленщины. Сирота круглый. По миру хожу, подаяниями питаюсь...» Коля и сам не мог понять потом, что случилось — то ли оставленный на ночное дежурство полицай допустил оплошность, то ли его истязатели постепенно склонились к мысли, что мальчик не обманывает их, а и вправду ни о каких партизанах не знает. Но когда вечером он попросился выйти за сарай «по нужде» часовой за ним следом не пошел, a остался на крыльце. Коля же не преминул счастливой случайности: он тут же перемахнул через забор и под покровом наступающих сумерек побежал из поселка. Часа через два он был уже родной Паленке. На его счастье, той же ночью зашли к ним в дом партизаны Афанасий Васильев и Андрей Кузьмин. Узнав о зубровских перипетиях, они забрали Кольку с собой в отряд. С тех пор винтовка, найденная когда-то возле Лихачевской МТС, верно служила Коле Васильеву до дня освобождения родной земли от гитлеровской нечисти. Аркадий Кандрусевич ×
Человек из деревни Паленка Часто к бывшему командиру 2-го отряда 35-й партизанской бригады А. 3. Васильеву, который живет теперь в деревне Палёнка Могилевской области, приходят пионеры и школьники. — Дядя Афанасий, расскажите нам о своих партизанских делах… — И вот завязывается интересный разговор. Когда речь заходит о юных партизанах, лицо бывшего командира добреет и голос становится каким-то задушевным. Дороги они ему, ребята, с которыми делил он тяготы военных дней и ночей… Вот один из рассказов Афанасия Захаровича. Жил в деревне Палёнка мальчик Коля Васильев. Ничем, казалось, не отличался он от своих сверстников. Зимой в школу ходил, летом помогал родителям по хозяйству, играл в разные игры. Беззаботной была его ребячья жизнь. Началась война. Немцы захватили нашу местность. И сразу посерьезнел мальчишка, почувствовал себя взрослым. Когда узнал, что мы уходим в партизаны, попросил взять с собой. «Буду воевать!» Однако взять Колю мы не могли. Не только потому, что он еще мальчишка. Решили оставить его в деревне партизанским связным. Как мы и надеялись, он оправдал наше доверие. В феврале 1943 года комсомольская партизанская группа из десяти человек под командованием Фоки Демьянова находилась в Тушевском лесу. Это была молодежь из деревни Палёнка. Когда они ушли в партизаны, фашисты по-зверски расправились с их семьями. Комсомольцы-партизаны жестоко мстили врагу. Однажды они решили написать письмо предателю Родины бургомистру Косматову. Вручить его взялся пионер Коля Васильев, которого партизаны называли Колей Малым. Взяв письмо, он отправился на станцию Зубры, где ему все было хорошо знакомо. Подошел к дому бургомистра, выбрал момент, когда Косматов остался один в кабинете, и, войдя в комнату, отдал письмо ему в руки. — Это вам от партизан. Прочтите и дайте ответ через меня, — сказал Коля. Заметив, что бургомистр испуганно посмотрел в окно, добавил: — Не вздумайте выдать меня. Моя жизнь — это и ваша жизнь. В случае чего, партизаны отомстят за меня. В письме же было написано вот что: «Господин Косматов! Пока не поздно, искупи свою вину перед Родиной и поверни оружие против оккупантов, если, конечно, дорога жизнь». Пока бургомистр читал письмо, Коля внимательно осматривал его кабинет. В окно были видны немцы и полицаи. Подошел поезд с военной техникой. Бургомистр, бледный, читал, не глядя на Колю. В конце письма стояла подпись: «Страус-Чапай». Немцы и полицаи хорошо знали это имя. — Ну что, согласны? — спросил Коля. Дверь раскрылась, и в комнату вошел гестаповский агент Борейша. — Попался, бандюга! — закричал он. — Сам пришел к нам в руки! — Он позвал еще несколько полицаев. — Что это? — спросил один из полицаев. — Письмо от партизан, — ответил осмелевший бургомистр. Коля стоял совершенно спокойно и, когда полицаи приказали ему поднять руки вверх, строго и веско сказал: — Подумайте и вы, пока не поздно. Если я буду на виселице, то и вам ее не избежать. Полицаи смущенно опустили оружие, но в это время в кабинет вошли немцы. — Партизан? Обыскать! Николая схватили, обыскали и, ничего не найдя, повели в комендатуру. — Где партизаны? Сколько их? — кричал комендант. — Сходите в лес да посчитайте сами, — дерзко ответил Коля. — Если не скажешь, будешь повешен, — злился фашист. — Вешайте! Только вам придется отвечать за меня. Партизаны не простят. — Мы из тебя жилы вытянем. Ты скажешь нам, где партизаны! — Никогда я не стану предателем. А вам страшно. Вы боитесь даже детей, — ответил Коля. Немец едва не задохнулся от бешенства. Колю вывели и посадили в подвал. Он начал агитировать полицаев, которые его стерегли: — Если вам дорога ваша шкура, опомнитесь, пока не поздно. Кому служите? Скоро немцев прогонят, и вам Родина не простит предательства. Полицаи ругались, но некоторые задумывались: «Мальчишка, а что говорит, как смело держится. Видимо, и в самом деле у них большая сила». Когда стемнело, Коля сказал постовому полицаю, что ему нужно выйти на улицу. Тот откинул засов. Коля под наблюдением охранника, державшего оружие на изготовку, лениво побрел к забору. Шаг, второй, десятый, и вдруг в один миг, не давая полицаю опомниться, перемахнул через забор и опрометью — вперед! Пока полицай выбежал в ворота, Коля был уже далеко. В снежной круговерти глохла стрельба преследователя. Парень и не заметил, как пробежал пять километров. Вот уже и родная Палёнка. Мать, увидев сына, вначале испугалась, но быстро пришла в себя и начала растирать Коле окоченевшие ступни — где-то в сугробе он потерял валенки. Он сжал зубы. Ни стона, ни жалобы. Переоделся в теплое и стал собираться в путь. Мать знала, что Коле нужно быстрее уходить, пока не налетели фашисты. Вдруг около дома скрипнули сани. В них — люди с оружием в руках. — Фрицы! — ахнула мать. Коля тотчас достал спрятанный под полом карабин и подготовился защищаться. Подъехавшие, в белых маскировочных халатах, словно заранее знали, куда им надо, вбежали в хату. И тут Коля бросился им навстречу. Это были партизаны — Андрей Кузьмин, «Иван Грозный» и я со своими товарищами. Побледнел Коля. И поняли мы, какой ценой далась ему выдержка… Забрали мальчишку с собой. С тех пор не расставался с нами отважный разведчик и умелый диверсант. Ему можно было поручить любое боевое задание, и он никогда не подводил. Теперь Николай Федорович Васильев живет в родной деревне и работает в строительной бригаде колхоза «Заветы Ильича». Мальчиком ему доводилось жечь дома, в которых засели враги, взрывать станционные сооружения… Пришла победа, принялся бывалый партизан за строительство. И подолгу горит в стеклах окон закатное солнце, и звучат под крышами домов песни и смех. И стучат в селе топоры… Мир на земле. За него воевал и он, Коля Васильев из села Палёнка. (Перевод Б. Бурьяна) ×
Она пережила 900 дней блокады 
Власова Н. И. с внучкой Машей
Моя бабушка, Власова Надежда Иововна, встретила войну в Ленинграде девочкой 11 лет. Она жила у своего старшего брата на ул. Набережной. Приехала она в этот город в 1938 году, после смерти отца. Их семья была многодетной, и брат Иван решил взять на себя заботу о младшей сестренке. Здесь можно было получить хорошее образование, приобрести приличную специальность. Но всем планам помешала война. Ленинград бомбили ночью и днем. По радио передавали: «Воздушная тревога! Всем в бомбоубежище!». Началась эвакуация. Не всех успели вывезти из осажденного города. Надеялись, что война скоро закончится, но для ленинградцев она затянулась на 900 горестных дней и ночей. Сильные бои шли под Вороньей горой, все взрослые защищали родной город. Бабушка рассказывала, как после бомбежки горели Бодаевские склады, где хранились запасы зерна, муки, сахара, и Ленинград остался без хлеба. Городской прописки Наденька не имела, а, значит, и продовольственных карточек ей не полагалось. У брата Ивана жена и двое детишек. Но ни разу они не упрекнули ее куском хлеба. Хорошо, что по соседству жил врач-терапевт Николай Федорович. Он-то и помог в самую трудную минуту. Добился, чтобы Наде выдали метрику о рождении, устроил работать крохотную девчушку в регистратуру своей больницы. В помещении было холодно, мерзли руки. Больных и раненых стало прибавляться, и Надя едва справлялась с работой. И опять на помощь пришел всё тот же сердобольный врач. Только благодаря ему ее перевели для помощи поварам на кухню. Работа досталась тяжелая – чистила котлы. Часто еда пригорала, и тогда она трудилась с особым усердием. Ведь то, что соскребала за весь трудовой день, собирала в котелок и потом относила детишкам Ивана. Особенно тяжелой была первая блокадная зима… Хлеб выдавали по карточкам, по 125 г на сутки на одного человека. За хлебом выстраивались очень длинные очереди. От длительного недоедания у людей кружились головы, случались голодные обмороки. Муки с каждым днем становилось все меньше и меньше. И тогда в тесто стали подмешивать опилки и мякину, в качестве пищевых заменителей использовались целлюлоза, хлопковый и льняной жмых. Из этого хлеба можно было лепить различные фигурки, но и этому хлебу были рады ленинградцы. Однажды бабушкиному брату Ивану, как военному, выделили полмешка гороха, вот они его размачивали и ели, варить было негде. Были очень холодные зимы, носить тоже было нечего. Сильные морозы вывели из строя водопроводные и канализационные трубы. За водой ходили к Неве. Ведер не было. Бабушка нашла два солдатских котелка, и ими она носила воду. Хорошо, что дом стоял на берегу Невы. Каждый день немцы бомбили город, но убегать в бомбоубежище уже не хватало сил, оставались лежать в квартире, было очень страшно. Все 900 блокадных дней бабушка прожила в Ленинграде. Прошла сквозь холод и голод, нечеловеческие испытания, выпавшие на долю блокадного Ленинграда. Но люди верили в победу и дождались ее. Бабушка награждена почетным знаком «Житель блокадного Ленинграда» и знаком «Ветеран войны», а также юбилейными медалями. В День Независимости Республики Беларусь бабушка получает поздравления от Президента Беларуси А. Г. Лукашенко. А в день 55-летия снятия блокады Ленинграда ее поздравило руководство Российской Федерации. Мария Власова, ×
Шел блокаднице 12-й год… Так случилось, что уроженка деревни Задорожье Горецкого района Надежда Иововна Власова разделила судьбу жителей блокадного Ленинграда. Родилась она в многодетной семье крестьян Белоусовых. Из семерых детей она была самая младшая. Родилась 2 августа 1931 года, когда старшему брату Ивану был 21 год. В семь лет, когда Надя ходила в первый класс, умер отец. От забот и болезни не стало в 50 лет полевода Иова (его звали просто Ёва) Степановича Белоусова. Вот прямо с похорон отца и увез 7-летнюю Наденьку в 1938 году брат Иван Белоусов в Ленинград в свою семью и заменил ей мать и отца. Жила она до войны в семье брата 4 года, присматривала няней за сыном Борисом в возрасте 8 месяцев и дочерью Тамарой 4 лет. И без отрыва от обязанностей няни окончила три класса школы. Жили они в Приморском районе по улице Набережная. Дом стоял на побережье. Ивана забрали на фронт. Город стали бомбить, началась эвакуация. Все, кто мог, уходили, а Надя с невесткой Евгенией Аверкиевной и двумя ее малолетними детьми остались. В городе была введена карточная система. Жили впроголодь. На одной лестничной площадке с ними жил врач-терапевт Сакс Николай Федорович, русский немец. Когда в городе не было воды, Надя с ведерком бегала на набережную Невы. «Наденька, идем на работу завтра», – участливо предложил врач. И назавтра посадил ее в регистратуру госпиталя вести записи поступающих и выбывающих пациентов. В госпитале было холодно, от чего даже чернила замерзали в чернильнице, и в журнале расплывались кляксы. Перевели Надю на кухню. Ни дров, ни денег по малолетству девочке не выдавали. Врач распорядился, чтобы записывали на кого-то ее зарплату и выдавали девочке. Невестка тоже работала и на рабочую карточку получала 500 граммов хлеба в день, на детскую карточку Надя получала 125 граммов. Он был черный, с примесью, от чего крошился и разваливался, но и его непросто было купить. Бодаевские склады с запасами муки и сахара немцы разбомбили сразу. Особенно ярко горел сахар и очень хорошо освещал немецким стервятникам объекты для уничтожения. С раннего утра у магазинов выстраивались большие очереди за хлебом, которого не всем хватало. Что-нибудь давал Наде повар. Так и пережили тяжелую зиму с 1941 по 1942 годы, остались живы. Возле их дома шла дорога на Серафимовское кладбище. Невдалеке стояла церковь. И не было дня, чтобы кого не везли на санках в последний путь. Хоронили ленинградцев в больших братских могилах, которые приводили в порядок уже после войны. Брат Иван вернулся с фронта весь израненный. Долго не протянул и вскоре умер. В 1947 году Надя вернулась домой в Задорожье к матери и двум братьям. Сергей Белоусов, с 27-го года, был узником концлагеря в Германии, вернулся оттуда с подорванным здоровьем и рано умер. Младший Александр отслужил в армии 6 лет и остался в Ленинграде. Работал на заводе, женился. А Надежда Иововна работала в полеводческой бригаде полеводом, звеньевой по льну. …После войны ей не удалось побывать в Ленинграде, городе, с которым оказалась повенчанной в самый тяжкий для него час. Но Надежду Иововну не забывают. У нее, ветерана блокадного Ленинграда, целая коллекция из 8 медалей. Недавно она пополнилась и памятным знаком Санкт-Петербурга «В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Петр Детликович ×
Воспоминания Из воспоминаний бывшего командира 17-й партизанской бригады Николая Ивановича Китаева: «Мне вспоминается бой нашего объединенного отряда в поселке Черничный Горецкого района 7 января 1943 г. Наш отряд, двигаясь на санях через поселок Черничный, попал в засаду, появились раненые в наших рядах. Я подал команду решительно и быстро выбить противника из поселка и уничтожить. Свое боевое распоряжение я передал через связного Женю Воробьева. Он быстро и смело под градом пуль выполнил мое задание. Подробнее... Храбрость и мудрость Жени Воробьева проявлены в диверсиях на железной дороге, в засадах и, особенно, в боях Бовской блокады в октябре 1943 г. Погиб Женя в бою с фашистами в июне 1944 г. Он был ранен и не мог передвигаться, а когда фашисты приблизились к нему, то взорвал себя гранатой. Вот как воевал и боролся за Родину юный патриот, партизан, храбрый, мужественный и самоотверженный пионер Женя Воробьев». Камісар 3-га атрада 115-й партызанскай брыгады Агасі Карапетавіч Грыгар’ян успамінаў: «1 чэрвеня 1944 года фашысты акружылі партызан у Баронскім лесе, што на Шклоўшчыне. Бой быў жорсткім. Фашысты стараліся знішчыць нашы кулямёты. Каля аднаго з іх знаходзіўся Жэня Вараб’ёў. Раптам куля трапіла яму ў жывот…» Далей з успамінаў Таісіі Уладзіміраўны Фомчанка: «Мы з Нінай Емельянавай падпаўзлі да яго каб аказаць дапамогу. – Не губляйце часу, дзяўчаты, – запярэчыў ён. – Уцякайце, я вас прыкрыю! Маме, Тася , скажы, што сын ваяваў як належыць салдату. Адбегшы метраў на дзвесце, я азірнулася і ўбачыла, што ворагі акружаюць Жэню, каб захапіць яго жывым. Але хлопчык, сабраўшы апошнія сілы, падняўся і кінуў гранату сабе пад ногі. Раздаўся моцны выбух. Не стала нашага таварыша, які разам з сабою падарваў фашыстаў, што акружылі яго». ×
Юныя мсціўцы Жэня Вераб’ёў прышоў у партызанскі атрад разам з маці і дзедам. Яго бацьку расстралялі фашысты за сувязь з партызанамі ў жніўні 1942 года, а 5 снежня расстралялі і дзеда. Жэня помсціў ворагу і за бацьку і за дзеда. За два гады ён вырас і пасталеў фізічна, умацаваўся духам. I дзе толькі не пабываў за гэтыя часы: лясы — машкоўскі, рэкацкі, чапялінскі — былі яго родным кутам. Давялося яму ваяваць на тэрыторыі Чавускага, Слаўгарадскага, Быхаўскага раёнаў. Пасля выхаду, з акружэння Жэня з часткай партызан вярнуўся ў Горацкі раён, змагаўся з ворагам у 115-й брыгадзе. 1-га чэрвеня 1944 г. у адным з баёў, каля вёскі Тудараўка, Жэня быў цяжка паранены. Каб не трапіць жывым у рукі ворага, ён падарваў сябе апошняй гранатай. Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР ад 30 снежня 1948 г. за мужнасць, праяўленую ў барацьбе з нямецка-фашысцкімі захопнікамі, Жэня Вераб’ёў пасмяротна ўзнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны 1-й ступені. Яго імя носяць атрады піянерскіх дружын СШ № 3 і СШ № 4. Вольга Гулевіч ×
Шел девчонке в ту пору... Шесть лет мне исполнилось только в октябре сорок первого. Мы жили в Горках на Слободе — папа, мама, моя старшая сестренка Клава, маленький братик, всеми обожаемый годовалый Ленечка, и я. Недалеко жила и наша бабушка по маме Матрена Романовна. Она часто навещала нас, помогала, чем могла. И я всегда была рада общению с ней. Маме же было некогда. Она работала на маслозаводе, и дома по хозяйству полно было дел. Довоенную жизнь помню смутно. А вот несколько эпизодов мне четко врезались в память. Это было в начале сорок первого. Я бегала по комнате вокруг трубки — небольшой печки для обогрева — и вдруг вспыхнуло мое платье. Папа тут же подхватил меня на руки и крепко прижал к себе... А вскоре мы провожали папу на военные сборы. Прощаясь, он подхватил меня на руки, прижал к себе и тихо спросил: «Ну, как? Ты простила меня?». Через какое-то время мы получили от него письмо. Читали вместе с родственниками и знакомыми. Папа писал, чтобы мы не рассчитывали на его скорое возвращение. И наказывал маме резать всю скотину, а мясо опускать в погреб. Все недоумевали, отчего так. Сошлись на одном: из-за жалости к маме. Она еще молодая — ей только двадцать восемь, а на руках трое детей, бабушка и большое домашнее хозяйство. Вскоре все стало понятным. Началась война, в город пришли немцы. Появление непрошеных гостей мы встречали в наспех вырытой яме в конце огорода, прямо у берега речки. Несколько дней мы жили в этой яме. Было очень страшно. Слышались выстрелы, крики. Фашисты устанавливали свои порядки. Вскоре и к нам во двор наведались двое. Зашли и сразу: куры, яйки. Мама не могла сдерживать отвращения и ненависти к оккупантам. Она сердито показала рукой на отрубленные куриные головы и проговорила» Вон висят! И ваши головы будут также висеть!». Один из фрицев тут же выхватил пистолет и навел на маму. Бабушка с маленьким братиком на руках, заголосив, опрометью бросилась на защиту. И мы с Клавой заревели в два голоса, как безумные. Но другой немец что-то сказал сотоварищу, и тот опустил руку. Они еще немного постояли, поговорили между собой и ушли. Мы с облегчением вздохнули. Потом узнали, что это были финны, многие из которых хорошо понимали русский. Мама ушла с маслозавода — не хотела работать на немцев — и вступила в сельскохозяйственную общину. В каждую входило по пять дворов, каждый двор получал надел земли. Наш участок был в районе стадиона. На общину выделялась лошадь. Доводилось задание по сдаче сельхозпродуктов. Мама с Клавой постоянно работали в поле. А мне надо было управляться дома с огородом и домашним хозяйством. Как-то по весне уже в сорок третьем подошла наша очередь на лошадь. Семьям фронтовиков она постоянно отодвигалась. Мы обрадовались и начали под плуг сажать картошку. Лил сильный дождь. Надо было до вечера все успеть. Но вдруг лошадь заупрямилась. Мама стеганула ее прутом, та взбрыкнула и ударила ногу о плуг. Тут же хлынула кровь. Мама сняла платок и попыталась перевязать рану. Но он быстро промок. Лошадь начало трясти, и она упала. Мама побежала в немецкие конюшни к ветврачу. Умоляла его спасти животное. Ведь немцы могли истолковать это как вредительство. Пришел ветврач, перевязал жгутом ногу ло¬шади, обработал рану и забинтовал. Лошадь с трудом поднялась. Он отвел ее в свою конюшню и долго лечил. Маму все же обвинили во вредительстве, и на следующий день немцы пришли забирать корову. Только вывели ее со двора, работавшая переводчицей в комендатуре соседка Ронка Гормоновская, которая увидела происходящее, подошла к немцам. Поговорила с ними, и те отпустили корову. Нашей радости не было предела. Тогда мы и думать не могли, сколько еще бед нас ждало впереди. Маму вызвали в комендатуру и обязали платить за лечение лошади. Но это были лишь цветочки. Пока не забрали в комендатуру нашу бабушку. Мы страшно переживали за нее. Не знали, что и думать. Оказалось, что заявила немцам на нее соседка, подозревая бабушку в связи с партизанами. Бабушка была родом из деревни Чепелинка. После замужества переехала в Горки. Но в деревне оставалось много ее родственников, один из которых — Егор Ленчиков — был командиром партизанского отряда. Она и в войну ходила в чепелинские леса за грибами и ягодами, навещала родню в деревне. Иногда оставалась там на ночь. Домой из комендатуры бабушка вернулась только через сутки. На допросе она прикинулась глухой, не помнящей родства старухой. До выяснения ее закрыли в подвале. Но в комендатуре был свой партизанам человек. Он открыл подвал, передал привет от брата Егора и выпустил бабушку, наказав немедленно уезжать из города. Накануне же маме говорил о необходимости оставить город и тот ветврач, что лечил лошадь. Мы быстро засобирались в путь-дорогу. Кое-какие вещи закопали у дома, корову и все самое необходимое забрали с собой и поехали на той же лошади, благо, ветврач хорошо подлечил ее и передал нам. Что это был за человек и почему он так поступал, так и осталось тайной. Мы приехали в Чепелинку к родственникам. Затем через два дня — в лес. Здесь мы не были одиноки. Землянок с партизанскими семьями было много. В одной из них мы и разместились. Мама сразу же определилась в разведку. И стала там просто незаменимым человеком. Я слышала об этом от командира разведки, который вместе со своей подругой Лидой частенько заглядывал к нам. Это были молодые красивые люди, любящие друг друга. Судьба этих молодых людей сложилась не просто. Любовь они пронесли до конца своих дней. Но об этом позже. Мама с детства не отличалась отменным здоровьем. У нее был невроз сердца, нередко падала в обморок, особенно после напряженного труда. Но в разведке казалась неуязвимой. А ведь ей приходилось и товарищей из-под огня выносить, и тяжести поднимать, не говоря уже о моральном напряжении. Возможно, из-за болезни у нее были сильно развиты интуиция, слух, обоняние. Командир разведки очень ценил эти качества. Она могла учуять запах табака, когда другим ночной воздух казался наисвежайшим; уловить подозрительный шорох и остановить разведгруппу без объяснения причин; дать сигнал всем замереть, так как слишком «громкой» показалась ей тишина. Сколько случаев было, когда на задание уходило несколько групп, а возвращалась только та, что с мамой. Бывало, что мама сутками не приходила домой. Потом мы узнавали, что была она в Орше или в Горках, где ее мог опознать чуть ли не каждый житель. Не случайно мама была награждена именным пистолетом с гравировкой. Мы, дети, были большей частью предоставлены самим себе. Война стала образом нашей жизни, нашего детства. Иного мы не знали, не помнили и не представляли. Мы, малыши, всегда тянулись к старшим ребятам. Они отгоняли нас, а мы тайком за ними. Вот как-то видим: пацаны что-то нашли и возятся со своей находкой. И нам любопытно. Подползли поближе, затаились. И тут раздался взрыв. Мы подхватились и бросились наутек домой. Я оглянулась и увидела бежавшего за нами соседского мальчика лет десяти-одиннадцати с черным от пороха лицом и оторванными окровавленными руками. Было ли у нас детство? Конечно, было. Только... взрослое. Мы знали, например, как реагировать на систематические обстрелы из бронепоезда нашего острова. Благо, немцы со своей пунктуальностью делали это ежедневно в одно и то же время. Помню, как перед очередным обстрелом у нас стал появляться молодой красивый мужчина из штаба отряда в военной форме, весь опоясанный ремнями. С обворожительной улыбкой он говорил женщинам: шейте, вышивайте, ничего не бойтесь. И вдруг исчез. А потом из разговора взрослых я услышала, что тот красавец и еще несколько человек оказались предателями — немецкими шпи¬онами, за что и поплатились по закону военного времени своими жизнями. Так прожили мы в землянке девять месяцев. Фашисты свирепствовали, чувствуя неминуемое поражение. Однажды ночью весной сорок четвертого к нам забежал командир разведки и передал приказ командования о немедленном уходе с острова. И мы пошли с партизанами. Только вышли из леса на болото, как начался минометный обстрел. Мы бежали толпой вперед. Рядом падали люди, раненые в повозках умоляли пристрелить их. Я уже не ощущала рядом ни мамы, ни бабушки. Продолжала бежать по минному полю, под автоматные выстрелы на сплошной огонь. Тут сообщили по цепи: всем лечь и по команде «Ура!» подняться и бежать вперед. Я послушно передавала эту команду другим. Все падали, и я падала. А потом с возгласами «Ура!» снова поднимались и бежали на линию огня. Я тоже усердно кричала «Ура!». Вдруг залетела в глубокую яму с водой. Какой-то партизан подхватил меня и поставил на ноги. Теперь я бежала только рядом с ним, своим спасителем, не отставая ни на шаг. Он падал, и я падала. Он вставал и с криком «Ура!» бежал, и я делала то же. И так трижды мы падали замирали, вставали и с криками «Ура!» бежали вперед. Мы пробивались через фашистские огневые цепи, окружавшие наш остров. И пробились. Конечно же, далеко не все. Выжившие в этом пекле партизаны стали совещаться о дальнейших действиях. В штабе вырабатывали план тайного выхода из оцепления. Сооружали гать на болоте. Вели переговоры с заднепровскими партизанами, которые должны были прийти на помощь. Но не помогли, так как сразу же нарвались на засаду. Мытарства наши на этом не закончились. Немцы понимали, что полного уничтожения партизан не произошло. И стали охотиться за оставшимися в живых. Фашистские автоматчики прочесывали каждый кустик. Как-то сидим под вывороченным пнем вместе партизаном и женщиной с ребенком. Слышим: идут, постреливая, два немца. Мы замираем. Бабушка рукой плотно закрывает рот и нос Лёнечке. Он весь вытягиваете бледнеет. И я уже думаю только о своем братике — выжил бы. Немцы проходят слишком медленно. Я даже отчетливо вижу рисунок на подошве сапога одного из них. Мне казалось, что и они видят нас. Хотелось вскочить и бежать, бежать, бежать. И сколько таких случаев мы пережили почти за три недели наших скитаний?! Голод был невероятный. Мы ели заячий щавель, траву. Как-то партизаны раздали конское мясо. Мы не могли его приготовить на огне, не обнаружив себя перед немцами — ели сырым. Бабушка всячески пыталась нас поддержать. Особенно Лёнечку. Она очень хорошо знала лес, и однажды, оставив нас одних, сползала в поле и принесла немного прошлогодней картошки и накормила Лёнечку. А как-то даже в деревню сходила и вернулась с кусочками хлеба. Братик с жадностью хлебушек сосал, а я долго держала его во рту, а потом медленно жевала. Партизаны не могли нас оставить на произвол судьбы. Стали готовить документы для выхода из леса под видом заднепровских беженцев. Нас вывели в деревню Маслаки. И там мы встретились с мамой и Клавой. Поселили нас в доме тети Ганны, которая жила с глухонемым сыном Ваней и двумя дочерьми восемнадцати и двадцати лет. Она была добрейшей души человек. Прекрасно знала, что мы — партизанская семья. А за связь с партизанами немцы не церемонились. Тетя Ганна делилась с нами последним, как с родными. Мама и здесь, в Маслаках, не прерывала своей партизанской деятельности. Часто уходила на задания, в разведку. Устанавливала связи, явки. Встречалась с жителем Маслаков, одноруким писарем, работавшим у немцев. Он вел деятельную работу в партизанском движении. Не без его участия проходили и переговоры по прорыву из огненного кольца. После войны он заходил к нам, они подолгу беседовали с мамой. И нам, повзрослевшим, на многое открывались глаза. ...Немцам все же донесли, что среди беженцев есть партизанские семьи. Как-то ночью к нам в дверь постучал связной, сообщил, что утром немцы будут искать партизан, и что нам надо держаться местных женщин. И вот нас всех согнали на колхозный двор в центре деревни. Мы видели на железной дороге пустые вагоны. Тут же стали отделять от толпы молодежь для отправки в Германию. Кругом крики, плач, паника. Бабушка растерялась, и мы с ней и Лёней оказались не с местными жителями, а с беженцами. Издалека увидели маму с Клавой. Она звала нас проститься с дочкой тети Ганны Ниной перед ее отправкой. Мы сунулись в тот ряд, но немцы с собаками не пропустили. Бабушка боялась, что вот-вот начнется проверка документов беженцев. И… это конец. Она сказала: «Беги в лес!». И я побежала. Мне вдогонку закричали: «Хальт!» — и стали стрелять. А бежать надо было по открытому месту через луг в низине и речку. Я уже знала, если пуля свистит рядом, значит, в меня она не попадет. Перебежав речку, я плюхнулась на траву и долго прислушивалась: не свистят ли пули, не гонятся ли за мной. Потом тихонько поползла к лесу. Темнело и мне становилось страшно. Так как никогда раньше не было. Даже под огнеметным обстрелом на болото. Ведь там были люди. Там был мой спаситель. А здесь я одна, в темном лесу. Не знаю, куда идти, что делать. В деревне лают собаки, туда нельзя — там немцы. И вдруг я услышала какие-то непонятные страшные звуки. Вроде и нечеловеческие, и не звериные. Я побежала от них, но они приближались. Я уже совсем обессилела, запуталась, уже не знала, в какой стороне деревня. Но вдруг меня кто-то схватил за руку: я увидела перед собой Ивана — глухонемого сына тети Ганны. Раньше я от него не слышала никаких звуков, потому и испугалась так. Тут же я бросилась его обнимать и целовать. Но он грубовато взял меня за руку и повел в деревню, я едва успевала за ним. Дома все были в сборе. Бабушку с Леней тоже отпустили, не признав в ней врага. Мама с Клавой тоже благополучно вернулись с местными жителями. Немцев прогнали с белорусской земли. Мы приехали домой в Горки. Все светились радостью, что кончились наши мытарства, что все остались живы. И с нетерпением ждали возвращения папы. Но… не дождались. У тех, кто пережил войну, она осталась в памяти и в сердце навечно. Тех, кого свели военные тропы, хотели узнать, увидеть, пообщаться со своими собратьями, как с самыми родными людьми. Как-то к нам зашел бывший начальник разведки партизанского отряда, который бывал у нас в землянке со своей подругой Лидой. Мы обрадовались этой встрече. Но в глазах нашего гостя была огромная печаль. Он сказал, что нет больше Лиды и что он повинен в этом. А было так: оказавшись в том огненном кольце, они договорились — не оставлять при ранении друг друга на растерзание немцев. И когда эта участь постигла Лиду, она закричала: «Стреляй же, не оставляй меня!». И он, полуобернувшись, выстрелил. Она умолкла. С того времени и кровоточило его сердце. А однажды он пришел к нам в приподнятом настроении. Мы удивились. И не сразу поверили в чудо: Лида выжила. Кто-то из жителей заметил признаки жизни в «убитой» женщине, раненной в ноги и грудь, и привез ее на телеге в деревню. Там нашли врача и лечили. А когда освободили Горки от немцев, отправили Лиду в госпиталь в Минск. Она же и разыскала своего друга. Они жили в Минске, потом переехали на юг страны. К нам приходили открытки от них. После войны я окончила школу, получила диплом бухгалтера в нашей сельхозакадемии. Он открывал мне двери солидных предприятий и учреждений в различных регионах нашего Союза и странах ближнего зарубежья. Муж был военным человеком, и мы с ним поколесили по летным гарнизонам предостаточно. Вырастили дочку с сыном, который тоже стал военным. У них свои семьи. Как ни странно, но чем дальше от тех роковых-сороковых, тем чаще возвращается к ним память. И не верится, что минуло уже семьдесят лет после освобождения. Как говорил мой любимый писатель Михаил Веллер: «Я не хочу писать мемуары, но фактически я их пишу...». Вот и у меня так. Надежда ГАПОНОВА, ×
Воспоминания о войне Гладкой Майи Ефимовны До войны родители снимали дом на Слободе. Мать – Квитинская Людмила Веньяминовна – работала в районной больнице медсестрой, говорила. Что немцы отбирали пленных, подлечивали и отправляли на работы. В 1943 году мать заразилась тифом и умерла. Отец – Граков Ефим Севостьянович – еще в 1939 году ушел на советско-финляндскую войну. Перед началом Великой Отечественной войны был дома в отпуске. Помнит, как он держал ее на руках. Затем, когда началась Великая Отечественная война был призван в ряды Красной Армии. Пропал без вести. В памяти врезались события, когда в Горках выгоняли евреев в гетто. Ходили по домам и говорили, что нужно идти. В доме осталась она одна с бабушкой и дедушкой. Была у нее подружка, с которой ходили гулять по городу. Она была старше на один год. Однажды на Новый год кто-то их надоумил пойти к немцам попросить конфет. Немецкая комендатура находилась в уцелевшем корпусе академии. В первый день им немцы дали конфет, а вот во второй раз, когда они пришли попросить, – получили пинка и скатились по ступенькам здания. Помнит, как выгоняли всех в парк, где вешали подпольщиков. Когда они шли с тетей в парк, их догнали трое полицаев, которые вели мужчину. Он был в бурке. На месте теперешней академической церкви был вал, который отгораживал от дороги парк. Этот мужчина вдруг набросил на двоих полицаев бурку, а сам перепрыгнул через вал и так удрал. Много позже, уже будучи библиотекарем Панкратовской сельской библиотеки, на открытии в Рекотке памятника погибшим партизанам партизанского отряда «Звезда», она в разговоре с Владимиром Петровичем Фомченко (руководитель Тудоровской подпольной комсомольской организации, затем член партизанской бригады «Звезда») узнала, что этим мужчиной был Агаджанян Ваган Ваграмович, руководитель Тудоровской подпольной комсомольской организации, автор книги о горецком партизанском движении «Дороги партизанские» (Минск, 1979). Еще память сохранила эпизод, когда она и ее подружка стали свидетелями облавы на связных партизан, которые пришли в город. Это было на улице Пионерской. Дети обошли улицу за домами и видели, как полицаи ловили партизан. Об освобождении Горецкого района тоже сохранились скупые воспоминания. Было уже лето, тепло. Прибежала какая-то женщина с букетом цветов и говорит: «Что вы тут сидите – наши пришли» и убежала. Майя схватила вазон с цветами и тоже побежала к слободскому мосту, где стояли наши танки. Люди обнимались, целовались, плакали. Она подбежала к танкисту, подарила ему цветы. Он обнял ее, поцеловал. Уже после освобождения Горок ходила с подружкой на Слободской мост. Там, под мостом они находили тол, собирали его, а затем использовали его для стирки. Вскоре умер дедушка, а затем бабушка. Ее забрала к себе тетя – мамина сестра. Жили впроголодь. Тетя продавала вещи, что остались от родителей и покупала еду. Сама Майя носила воду людям, а ей давали кто блин, кто кусочек хлеба. После войны пошла в первый класс в школу на Слободе. Н. Дылькова, ×
Для ўзнагарод час не перашкода Для Мікалая Рыгоравіча Давыдзенкі, інструктара вучэбнага гаража па навучанню студэнтаў ваджэнню трактараў і аўтамабіляў, суботні лютаўскі дзень 1987 года прынёс вялікую радасць. Запрасілі яго ў Магілёўскі аблвыканкам і ад імя Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР уручылі адразу тры ўзнагароды Радзімы: медалі «За доблесную працу ў Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 гг.», «Трыццаць год Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 гг.» і-«Сорак год Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 гг.». Складаны і шматгранны шлях Мікалая Рыгоравіча. У 1941 годзе яму было пятнаццаць, вучыўся ў школе ФЗО. У першыя дні вайны прыкладвае рукі малады будаўнік зусім не да мірнай працы. У г. Сталіне (зараз Данецк) спешна рыхтуюць памяшканні пад шпіталь для раненых савецкіх воінаў. Па завяршэнні гэтай работы гарваенкамат накіроўвае Мікалая Давыдзенку на інструментальны завод «Перамога», дзе ён працуе рознарабочым замест дарослага, які пайшоў на фронт па мабілізацыі. У снежні 1941 года завод эвакуіруюць на Урал. Эвакуіруюцца і ўсе падлеткі, працаваўшыя на заводзе. На Урале накіроўваюць яго на прадпрыемства абароннай прамысловасці. Там і прайшлі юнацкія гады М. Давыдзенкі. Працуючы, ён спачатку быў вучнем, затым заточнікам інструмента, а як падцягнуўся і падужэў, уручылі яму інструмент па плячы – стаў малатабойцам. Цяжкі быў час. Фронт патрабаваў зброі, шмат зброі... Тыл яе каваў... У інструментальным яе кавалі падлеткі і адным з іх быў Мікалай Давыдзенка. Праца патрабавала многа сіл. Гэта зараз Мікалай Рыгоравіч здаравяк і яму ўсё па сілах, а ў той час... Не было чым падмацавацца. Не хапала нават сіл дайсці да інтэрната пасля доўгай змены. Пастаянна хацелася есці. Працавалі ўсю вайну без водпуску і амаль без выхадных. Адпускныя пералічваліся ў фонд абароны, а ў выхадны ўсё роўна ішлі на завод і працавалі таму, што па радыё перадаваліся несуцяшальныя зводкі... Закончылася вайна і здавалася, што можна нарэшце будзе расправіць плечы і адпачыць, але завод яшчэ год працаваў у тым жа рытме. Я прыпамінаю дзень, калі ў вучэбным гаражы гаварылі аб хлебе, аб тым, што з асваеннем цалінных зямельных масіваў з хлебам у краіне стала вальготна: еш – колькі хочаш. У Мікалая Рыгоравіча быццам ком у горле застраў, і ён заплакаў горкімі слязьмі. Успомнілася яму, як аднойчы ў дзень палучкі на ўсе заробленыя грошы купіў хлеба і за адзін прысест з’еў яго, а потым у заводскай сталовай цэлы месяц еў суп без хлеба... Да 1946 года ён працаваў на заводзе. У час свайго першага ў жыцці водпуску прыехаў у родныя мясціны ў Беларусь, у вёску Канюхі Горацкага раёна. Стаў механізатарам, пазней пачаў сам рыхтаваць механізатарскія кадры, прыкладваў максімум намаганняў, каб у абучэнні студэнтаў хлебаробскай справе не было прабелу. Заўсёды і ўсюды думаў Давыдзенка аб народным караваі, правільна разумеючы словы крылатага выразу: «Будзе хлеб, будзе і песня», а таму заўсёды садзіўся за руль самага вялікага, самага магутнага трактара, стараўся як мага болей убраць хлеба, як мага болей узараць. М. Аўчыннікаў ×
«Я прошла через этот ад…» Наталья Ивановна Захаркина (Лабковская) – дитя войны. Воспоминания ветерана записала ее внучка, ученица 8 класса Ленинской средней школы Алина Липинская. Я, Захаркина Наталья Ивановна, девичья фамилия Лабковская, родилась 10 сентября 1934 года на хуторе Сушшак, это между д. Ленино и д. Луки. После войны это место называли минное поле, т.к. оно было «усеяно» минами. В 1940 году мои родители переехали с хутора в д. Ленино, купили дом. Моя мать, Минакова Матрена Трофимовна, и отец, Лабковский Иван Михайлович, были зажиточными крестьянами. Имели большой надел земли, наемных работников. В подпасках был мальчик лет двенадцати, хороший и послушный, все его очень любили и называли ласково Филя. После войны он стал известным художником Феликсом Евмененко, приезжал к нашей маме в гости, привозил подарки и благодарил за хорошее отношение к нему. В 1941 г. отец ушел на фронт. Мужчин из д. Ленино в первые дни войны забирали уже не в Горки, а провожали в деревню Горы. Шли слухи, что и Оршу немец взял десантом. В д. Вушово Мстиславского района жила двоюродная сестра отца, и она видела отца последней, а потом получили извещение, что он пропал без вести. Старший брат, Лабковский Федор Иванович, 1920 г. р., на начало войны находился в рядах Красной Армии, вернулся после войны раненый, перенес контузию. Перед приходом немцев в д. Ленино все жители из деревни выезжали, мы тоже выехали в д. Андеколово, жили неделю там у маминых родственников Грушиных. Немец обещал не трогать мирное население, и мы вернулись. Но в нашем доме уже стояли немцы, а нам разрешили занять переднюю его часть. Так мы и жили: три сестры с мамой и тетей Хотимьей. Немец нас особо не обижал, раздал колхозную землю и лошадей людям, и нам дали коня. Когда мы, дети, выходили на улицу, то, бывало, немцы наставляли на нас оружие и заставляли ловить наших или соседских курей для них. Староста ходил по домам и собирал яйца и сало для немцев. В деревне Ленино жило очень много евреев. Однажды всех евреев собрали на улице. Там были и наши ровесники, с которыми мы дружили. Евреев гнали расстреливать по теперешней улице Юркова, тогда это была узенькая тропинка. Мы провожали евреев взглядами, ведь сами тоже боялись, так как за связь с евреями расстреливали местных жителей. Затем мы уже с окна дома смотрели и плакали все: и малые, и взрослые. Наш дом до войны стоял на том месте, где сейчас находится дом №17 по ул. Ленина. Дом был очень большой, новый, окна выходили на улицу, а одно окно смотрело на огороды. Так что мы видели все эти ужасы. Расстреливали евреев на том месте, где сейчас идет дорога к музею. С правой стороны от плотины был заранее выкопан огромный ров. Обреченных расстреливали. Кто падал в яму раненым, кто живым. Говорил и, что земля еще «дышала» два дня. На наших глазах расстреляли девочку-еврейку, которая прибежала из Горок к своей бабушке, думала здесь найдет спасение. Но ее предал староста. Девочку расстреляли под окном, на том месте, где сейчас находится амбулатория. 27 сентября 1943 года, когда наши войска начали вытеснять немцев из деревни Ленино, мы направились в сторону Староселья через мост возле кладбища. Здесь уже стояли полицейские и никого не пускали, всех гнали на Горки. Наша мама плакала, просила, чтобы нас, женщин, пропустили. Местные полицейские, видимо, в предчувствии своего краха, нас пропустили. Ночь мы провели в Староселье, поджидая тетю Хотимью, которая осталась в деревне Ленино печь хлеб. А когда тетя пришла с хлебом, мы сразу поехали в сторону леса. Когда подъехали к деревне Городец, тут уже были русские войска. И вдруг в небе появились немецкие самолеты и начали бомбить. Вот здесь мы опять узнали ужасы войны. Нашу корову ранило, коню перебило ногу, телегу разбило, а мы спрятались в кусты и остались живы. Потом мы жили в Паньковском лесу, что в Смоленской области. Некоторое время мы жили под открытым небом в дождь и холод, а потом наши русские солдаты, которые тоже стояли здесь, выкопали нам землянку, и так мы прожили половину зимы. А под Новый год нас определили в деревню Мальки, где жили беженцы и наши русские солдаты. Я с сестрой и тетей ходила по хатам и просила что-нибудь поесть. Кто давал что-либо, кто ругал, что беженцы надоели. Часто солдаты давали сухарей и каши, которые помнятся и сейчас. Помню, был молодой солдат Иван Иванович, он всегда перед боем, когда шли под Ленино, нам, детям, дарил то платочек, то отдавал свою порцию сахара, говорил, что у него дома такие же сестры. В д. Мальки я заболела тифом, и хозяйка заявила об этом какому-то начальнику. Пришел какой-то военный и сказал маме, чтобы она везла меня в д. Быстрая. Там находился военный госпиталь. Это была обыкновенная землянка, сколько было в ней народу, я не знаю. У меня был кризис, а когда пришла в себя, поняла, что нас зимой, в крытой машине, куда-то везли. В кузове было больных «как селедок», у кого еще был кризис, они метались, бились, мальчики постарше и здоровее держали их и поили водой из бутылки. Всем давали по одному глотку, а слабейшим по два. Когда уже немного окрепла, от больных узнала, что нас привезли в Мстиславль и привели в каменное здание школы. Все больные лежали на полу на соломе. Рядом лежала женщина с двухлетней девочкой Надей. Однажды я проснулась и спросила, где Надя, женщина ответила, что она умерла. Я так испугалась, что тоже умру, и мама моя знать не будет. Я стала все кушать, что дают, а до тех пор я ничего не ела, хлеб собирала в карманы, суп отдавала назад. Понемногу окрепла и стала выходить на улицу, все всматривалась в лица прохожих, ждала свою маму, а мамы все не было. Тем временем наших родных с деревни Мальки перегнали в деревню Березотня. Мама говорила, что пришла в деревню Быструю, где положили меня, а там уже нет той землянки. Она плакала, спрашивала у военных, куда переехала эта часть, а ей отвечали, что это медсанбат, и куда он переехал, никто не знает. Так мы с мамой и расстались. Свела нас случайность. Старшую сестру Марию, 1924 года рождения, из деревни Мальки забрали в армию. Она, как и многие, копала траншеи и тоже заболела тифом. Ее привезли в больницу, где лежала я, и она меня узнала. Поскольку она военная, ей и ее подруге дали койку, и они взяли меня к себе. Радости не было конца. Через некоторое время сестра выздоровела и пошла искать своих. Я бежала вслед и плакала, но врач сказал сестре, что сама идет, не зная куда, и не нужно брать больного ребенка. Сестра ходила по деревням, спрашивала, где есть беженцы и откуда. И только за зиму она, ослабшая после болезни, нашла маму. Есть было нечего, и люди подавали милостыню очень мало, потому что все жили впроголодь. Потом сестра пришла за мной. В обратный путь мы добирались где пешком, где подвозили солдаты. Так мы оказались в Березотне. В этой деревне мы квартировали, в доме Овчинниковой Елены. Линия фронта проходила под Ленино, и нас повезли дальше, в деревню Путяты. Там мы летом жили в сарае, рядом стояли кони, коровы. За все время войны в бане мы никогда не были, все болели чесоткой, и эти раны разъедали вши. 30 июля 1944 года мы вернулись с беженцев. Жили в землянке, которую для себя делали солдаты. Деревня Ленино была полностью сожжена, кругом все заминировано. Мы, дети пошли посмотреть, где стоял наш дом, и не нашли, бурьян вырос, как лес. Перед отъездом в беженцы мама бросила в наш погреб несколько мешков овса. А когда вернулись, то на том месте оказалась яма. И все-таки мама взялась раскапывать, ведь был голод. Как оказалось, в этом погребе прятались солдаты, а бомба попала прямо туда. И зерно, и человеческие останки смешались вместе. Но мы выбирали это зерно и ели, а человеческие кости закапывали. Ходили по полям, собирали гнилую картошку, несмотря на то, что поля были заминированы. В 1945 году я пошла в школу. Училась в подвале, который остался от разрушенной школы, а потом в деревне Сысоево в хате Кальчевского Амоса, который стал председателем сельсовета. В 1954 году окончила 10 классов Ленинской средней школы. После школы пошла работать в Ленинское сельпо. Училась заочно в Молодечненском учетно-плановом техникуме. Всю свою трудовую жизнь работала бухгалтером в Ленинском сельпо. Сейчас на заслуженном отдыхе. За многолетний добросовестный труд награждена юбилейной медалью к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина и многочисленными грамотами. Ветеран труда. Н. Захаркина ×
Война: воспоминания маленького очевидца Я сижу в кроватке, а бабушка, Мария Ефимовна, колдует по хозяйству: топит печь, доит козу, поливает грядки и смотрит за мной – все у нее получалось быстро и ловко. Тетя Поля пришла с работы. Она работала в пригородном совхозе имени Погодина (г. Горки Могилевской области) зоотехником. Она угощает меня мармеладом. Отдавая его, играет со мной и приговаривает: «Я коза-дереза, полбока облуплено, за три гроша куплена, топу-топу ножками, забодаю тебя рожками, ножками затопчу, хвостиком замету». Говоря эту присказку, она выставляет указательный палец и мизинец, а остальные три сжаты в кулак, поворачивает влево-вправо рукой. Так бодает меня, дотрагиваясь этими рожками до моего животика. Я весело смеюсь и хлопаю в ладошки, а мармелад так и тает во рту... До войны дети в нашем небольшом городе Горки, как правило, не ходили в детсад и играли возле дома во дворе или на улице самостоятельно. Наш небольшой домик стоял на пригорке. Он был последним, с краю улицы Вокзальной (ныне улица Заслонова). Сразу за ним начинался луг, усыпанный веселыми яркими цветами: желтыми лютиками, синевато-фиолетовыми колокольчиками, белыми ромашками. Внизу протекала речушка. Мы, малыши, бегали по влажному лугу, ловили бабочек. Было так радостно! Это было высшее, наверное, детское счастье. Моя бабушка была верующей. Она часто, надев на нос очки, садилась под образом со светящейся огоньками лампадкой в уголку и читала старинную Библию, а иногда тихонько напевала, когда никого в доме не было, псалмы. И упорно пыталась научить меня молитве «Отче наш…» «Антихрист пришел...» В воскресенье раненько бабушка разбудила меня: «Вставай, внучек, уже солнышко взошло!» Мы пошли по тропинке в церковь, которая находилась в Ивановской роще. Отошли от дома недалеко. Утро было какое-то желтое, туман клубился, как облако. Видим – бегут нам навстречу женщины и старушки и, истово крестясь, кричат: «Антихрист пришел на землю Конец свету! Конец свету!» Бабушка испугалась, что уж говорить про меня, и мы поспешили домой. А вечером – я никогда не забуду такое страшное зрелище – мама стала резать двух беленьких козочек. Наша коза Белка их недавно родила. Коза жалобно блеяла. Мы с братом горько плакали, просили маму не резать козляток. Но она нам сквозь слезы ответила: «Началась война. Скоро здесь будут немцы!» А к вечеру мама и тетя Поля взяли лопату и стали рыть на косогоре, недалеко от дома, окопчик, чтобы можно было спрятаться от бомбежки. Город Горки немцы уже начали бомбить. Во время бомбежек вся семья – бабушка, мама, тетя Поля и мы с братом – сидела в окопчике. Мне как-то раз это надоело, и я выбежал на луг, стал бегать по нему, светило яркое солнце кругом цветы и много бабочек, за которыми я стал гоняться. Но тут вдруг недалеко от меня ухнула бомба, я был оглушен, стал хуже слышать на левое ухо. Больше никогда мама не отпускала меня из нашего окопчика. Я увидел немца Через какое-то время после начала войны, может, через неделю или около того, к нам в дом зашел немецкий солдат и сказал: «Матка, млеко, яйко?!». Мама налила ему в кружку козьего молока, он сразу его выпил, дала два яйца, а он в благодарность оставил плошку – это был в круглой плоской картонной баночке фитиль, залитый парафином. Он потом приходил еще раз и за несколько картофелин оставил маме кусок хозяйственного мыла. Воздушный бой Мы, малыши, играли на улице. Вдруг в небе послышался нарастающий гул летящих самолетов. Видим: в небе невысоко три самолета с красными звездами. Откуда ни возьмись на них налетели несколько самолетов с черными крестами. И начали самолеты гоняться друг за другом. Раздавались звуки, будто горох рассыпали в пустом ведре. Самолеты то взмывали вверх с душераздирающим ревом моторов, то летели вниз в пике к земле и круто опять поднимались. Смотрим, два наших самолета полетели на восток, а один остался их прикрывать (это нам стало понятно уже потом, когда повзрослели). На него налетели немецкие самолеты и подожгли его. Самолет, оставляя дымную полосу, упал недалеко от нашего дома, на выгоне, где пасли коров и овец. Мы побежали к месту падения самолета, оно уже было оцеплено немцами. Увидели большую яму с водой, обломки самолета и немецкого офицера, державшего в руке летчицкий планшет. Обгорелый летчик был мертв. Мы потом часто бегали на это место и собирали куски слюды, фанеры, разные трубки и железки для наших детских игр. Пленные Однажды, гуляя по улице, мы услышали ни на что не похожие звуки, сливающиеся в воздухе в сплошной гул. Он приближался и становился громче и громче. Наконец в облаке пыли показалась большая колонна людей, казалось, ей не было конца – это были пленные красноармейцы. Их гнали по улице Вокзальной на станцию Погодино для погрузки в вагоны. Гул был такой ужасный, что мурашки побежали по телу: смешались воедино и стоны раненых, и плач, и говор, и топот солдат, и окрики конвоиров, и лай овчарок. Пленные были в крайней степени изнеможения, многие с кровавыми повязками на головах и руках, босые, с расстегнутыми гимнастерками, многие в нательных рубахах, некоторые еле волочили ноги, их поддерживали товарищи. Люди бесчеловечным обращением конвоиров были доведены до животного состояния. Видимо, начальник конвоя дал команду конвоирам: пусть, мол, кормит этих несчастных солдат само население. И конвоиры, отсчитав 15-20 человек, показав рукой на какой-нибудь рядом стоящий дом, отпускали их на «прокорм» под охраной двух конвойных с винтовками. И в наш дом ввалилась такая группа военнопленных: в глазах у них горела голодная волчья ярость. Они хватали все, что попадало под руку, свалились на пол в кучу: образовалась груда переплетенных тел, дерущихся за каждую картофелину, луковицу, чесночную головку, кусок хлеба. С пола раздавались глухой вой и рокот из этой кучи людей. Конвоиры через несколько минут безжалостно прикладами стали поднимать их с пола и выгонять обратно в колонну, которая все проходила и проходила по улице. После посещения военнопленных в доме не осталось ни картофелины, ни луковицы, ни кусочка хлеба – все было съедено за секунды. Первый стыд и унижение Когда стало совсем плохо (семья голодала, есть было нечего, кроме щавеля), мама отправила меня ходить «по кускам». Она научила меня, что надо говорить: «Люди добрые, подайте, Христа ради, милостыню сироте». Мне было стыдно произносить эти слова, я плакал и просил маму не посылать меня с котомкой через плечо, но она объяснила, что иначе мы помрем с голоду. Один только день я ходил «по кускам» и запомнил это унижение на всю свою жизнь. Став взрослым, я никогда не прохожу мимо просящего, чтобы не дать ему сколько-нибудь денег, ведь это крайняя степень унижения человеческого достоинства. В войну дети быстро взрослели. Иногда мы ходили на железнодорожную станцию Погодино. Там разгружали вагоны с хлебом. Некоторые немецкие солдаты, видя нас, малышей, кидали нам по буханке заплесневелого хлеба. Это был настоящий праздник, когда я и брат приносили домой такую буханку хлеба. Вскоре мама устроилась путевой рабочей на железную дорогу, она стала приносить домой паек, кусок хлеба, нам стало немного легче. Но все равно от голода и авитаминоза мы все болели «куриной слепотой». Как только начинало садиться солнце, мы переставали видеть. Поэтому в темное время всегда сидели дома. Эдик Летом 1943 года мама взяла нас собой в баню, это был женский день. Мама быстро вымыла брата, меня, вымылась сама, и мы вышли в раздевалку. Брат быстро оделся и стал проситься на улицу. Мама не хотела его отпускать, но потом, сказав, чтобы он никуда от бани не отходил, отпустила его. Мы заканчивали одеваться, когда вдруг возле бани раздался взрыв. Мама побледнела и сказала в ужасе: «Наверное, Эдик подорвался!» Мы быстро выбежали из бани. Смотрим – стоит Эдик, вытянув перед собой руки, с которых льется кровь. На правой ладони висят на коже оторванные фаланги двух пальцев: большого и указательного. Ладонь левой руки была тоже вся посечена меткими осколками, и с нее тоже лилась кровь. Брат стоял бледный и даже не плакал. Мама схватила его за локоть и повела в немецкий фельдшерский пункт. Немец-фельдшер тут же спокойно отхватил ножницами оторванные фаланги пальцев, забинтовал пораненные руки. Оказывается, когда брат вышел из бани, возле нее стояли ребята и держали в руках взрыватель от мины или гранаты. Он отобрал его у них и прогнал детей подальше, а сам подорвался, пытаясь разрядить (снять с боевого взвода) взрыватель. Угон Осенью 1943 года немцы стали отправлять население городка в беженцы, подальше от линии фронта. Два раза нам удавалось удрать, не доходя до погрузки в вагоны. Сначала мы, дети, шмыгали в кусты с дороги, по которой нас гнали немцы, а затем и мама с тетей Полей умудрялись тоже удирать из колонны и возвращаться домой. Но в третий раз немцы заходили в каждый дом и, если там никого не было, искали его обитателей поблизости. Мы спрятались в нашем окопе и думали, что нас не найдут, но немцы с овчарками нас быстро обнаружили и приказали выходить. Мама вылезла из окопа. Она хотела зайти в дом и взять хлеба, но немцы не пустили ее, а погнали всех нас вместе с тетей Полей в колонну и погрузили в вагоны. Тетя Поля знала немецкий язык. Она поговорила с офицером, отвечающим за погрузку, и он отпустил ее домой за хлебом. Так мы были обеспечены на некоторое время питанием. В вагон нас набилось битком, и маленьких детей, чтобы их не раздавили, матери брали на плечи. Меня тоже мама посадила на плечи и держала, пока в вагоне не образовалось небольшое пространство, где я и брат стояли возле мамы. Мы доехали до Крупского района, и поезд почему-то остановился. Нам приказали выйти из вагона и повели в деревню Коркутовку (так говорила мама). Мы были там в крестьянской семье на постое, пока Горецкий район не освободили от немецко-фашистских захватчиков. Вернулись домой, в Горки, но нашего дома не было: соседи сказали, что его немцы разобрали для постройки блиндажей. Несколько месяцев мы прожили в пустующем чужом доме по переулку Красноармейскому. Потом вернулись из эвакуации хозяева дома, и мы вынуждены были уехать из Горок в Сморгонь к маминой сестре, тете Фрузе. Я эти строки написал в надежде, что их прочтут не только подростки, но и юноши, и взрослые. Здесь нет ни одного слова вымысла, все – чистая правда. Л. Искров, ×
“Дзіцячая вайна” Анатоля Калачова ...Верасень 1941 года. Як заўжды, прыпусцілі мы кароў на поплаў паблізу льнозавода і страшэнна здзівіліся: навокал, наколькі бачна, ажно бела ад лістовак. Мы — гэта хлопчыкі-пастушкі 11-12 гадоў з былой вуліцы Вакзальнай (Зарэчча і Грышанаўка), што ў Горках Магілёўскай вобласці... Чытаем, а ў лістоўках I. В. Сталін шчыра просіць усяляк шкодзіць фашыстам, нічога не пакідаць ворагу, усё разбураць і паліць. Неяк трывожна стала нам. Самы разумны і начытаны з нас, сын настаўніка, стаў вельмі ўжо пільна паглядаць на бітком набітыя навесы з прасаваным льновалакном, дзе на кіпах рэзка выдзяляліся белыя этыкеткі з надпісамі “Nach Deutsland” (у Германію). Потым неяк самі па сабе, без усякай дамоўленасці, мы пабеглі да навесаў, каб “выпрабаваць” нямецкую газавую запальнічку, абмененую на яйкі, бо там, маўляў, ветру няма... Завод згарэў да вуголля. Сем’і грышаноўскіх і зарэчанскіх пастушкоў засталліся жывымі толькі дзякуючы ўпартасці Ваські Калачова. Не спакусілі яго ў паліцыі цукеркамі і іншымі абяцанкамі, а калі сталі люта біць, ён ашалела еньчыў толькі адно: “Не ведаю, не бачыў, дзядзечкі, хто лён падпаліў, не біце...”. Праўда, пасля вайны ён мне неяк прызнаўся: “Секанулі б гумавай палкай яшчэ некалькі разоў — і ўсё, ісказаў бы”. Зусім хутка пасля вайны памёр Васька, некалькі гадоў назад пакінуў жыццё яшчэ адзін удэельнік гэтай “аперацыі” прафесар-садавод В. Н. Балобін, а трое пакуль жывуць. 1943 год. Восень. Наша войска спынілася ў некалькіх кіламетрах ад Горак на доўгія і жудасныя дзевяць месяцаў. Ні днём, ні ноччу не змаўкала артылерыйская кананада, асвятляльныя ракеты, бамбардзіроўкі... Але ж галоўны страх чакаў нас зімой 1943- 44 гг. Гэта быў сапраўдны “канец »ту”. У той час мы яшчэ не ведалі, што такое залпы рэактыўных “Кацюш” тэрмічнымі ракетамі... Малітва “Ойча наш”, якой навучыла мяне бабуля Варвара, жыве ў маім сэрцы і да гэтага часу. Май 1944 года. Апошніх зарэчанцаў і грышаноўцаў немцы выганялі з хат і сховішчаў у “бежанцы”. Чыгуначны састаў доўга рухаўся ў бок Мінска. Потым нечакана павярнулі назад. Прывезлі нас у Шклоўскі канцлагер для ваеннапалонных. Мы і да гэтага напакутаваліся ад голаду, каросты і вошай, але тое, што перажылі ў канцлагеры, не паддаецца апісанню. Нас не кармілі, па сценках барака поўзалі вошы, а трупны пах ад нябожчыкаў, напалову прысыпаных, у вялікіх ямінах даводзіў людзей да непрытомнасці... Праз некалькі дзён па нямецкім “размеркаванні” маці, сястра і я трапілі ў вёску Сасноўка Шклоўскага раёна. На трэцюю ноч нас абрабавалі бандыты, забралі кілаграмы тры сухароў. Прыйшлося жабраваць у суседніх з Сасноўкай вёсках... Чэрвень 1944 года, кароткі, але жорсткі бой каля Сасноўкі (як-ніяк левы бераг Дняпра). Парадокс: што хаваліся мы ў пустых траншэях, якія праходзілі ў метрах 50 ад вёскі. Спачатку па гэтых траншэях білі нашы, потым немцы... Як у кіно падскочыў і загарэўся дом салдаткі Улляны... Чую ахрыплыя галасы і больш зразумелае — “Які чорт вас занёс у нямецкія траншэі!?”. Быццам у запаволенай здымцы, бачу як з цёткай Мар’яй цалуецца салдат у зялёнай касцы і раптам валіцца ад нямецкай аўтаматнай чаргі, а цётка цалёханькая... Памятаю старшага лейтэнанта, маладога, але ўжо сівога. Я і цяпер бачу яго вочы, вочы пакутніка, якія малюць толькі на абразах. Дзяцей і жанчын лейтэнант пасадзіў у “палутарку”, штосьці сказаў шафёру і той хуценька павёз нас у тыл. Высадзіў у вёсцы Гарадзец таго ж Шклоўскага раёна і ціха вымавіў, нібы прабачэння папрасіў: “Мілыя, мне хутка трэба назад, а вы ўжо як-небудзь, толькі будзьце асцярожнымі”. Мы, ашалелыя ад радасці кінуліся дадому сваёй хадой. Наперадзе — лес. Хочам прайсці яго яшчэ завідна і натыкаемся на разбітую нямецкую вайсковую калону. Відовішча жудаснае, дарога нібыта ўзарана вялікім плугам, зямля перамешана з трупамі салдат, коней, пакурожанымі машынамі. Фурманкамі і запечанай бурай крывёю. Чулася толькі гудзенне мух, а лес маўкліва стаяў, як на хаўтурах... Людзям, якія перажылі вайну ўспамінаецца рознае, але ўсім ім сняцца трывожныя і страшныя сны. Я ўсё часцей бачу твары трох студэнтаў, павешаных у Горацкім парку ў першы дзень акупацыі, — адзін светлавалосы з сінімі вачыма, твар далікатны, як у дзіцяці; другі чарнявы, нос з гарбінкай, трэці русы, курносы і вяснушкаваты… Цяжкія ўспаміны. Але ж гэта нялёгкае жыццё і памяць — адзінае, што засталося нам, выжыўшым у прыфрантавых гарадах і вёсках Беларусі. А. Калачоў ×
Воспоминания «Мне едва исполнилось пять лет, когда началась война, но, порой мне кажется, что я помню всё с первого дня оккупации и до победы. Ещё до войны в Ректе появилось радио. И я хорошо помню, как вдруг сообщили, что немецкие войска напали на Советский Союз. Нас было четверо братьев: Николай, Леонид, я и маленький Василий. Мать повела нас прятать к соседу в погреб. А тут наискосок через улицу бомба угодила в сарай — нас ударной волной свалило. Мать по огородам повела нас вдоль речки. В первые же дни заявились немцы. Их обоз с провизией где-то запаздывал, а они тащили всё, что плохо лежит. Осенью 1943 года многих жителей погнали в Оршу. Там погрузили в теплушки для отправки в Германию. Спасло тогда то, что на станции не хватило паровозов. Продержав нас в вагонах три дня, немцы вновь погнали нас в сторону Болбасова. Ночевать остановились в деревне Лисуны. А на утро наша семья не вышла, так и остались в той деревне. Затем хозяева избы, в которой мы жили, попросили нас уйти. Нам пришлось обосноваться в одной из земляных банек. Чтобы не умереть с голоду, приходилось просить милостыню по дворам. Советский танк, появившийся надо рвом, я заметил первым, но мне никто не поверил, когда я кричал: — Танки, наши танки! Все выбегали, выглядывали. Вскоре появились не только танки, но и «Катюши». Тут начался настоящий праздник. Все были рады не только освобождению, но и тому, что наконец-то можно было поесть настоящего хлеба. Мне солдат дал целых три буханки хлеба. Это было настоящее богатство! В те дни в сорок четвертом пришло долгожданное освобождение от фашистов». П. Колтунов ×
Горький вкус детства Сколько их, мальчишек и девчонок, которые в детские годы видели не игрушки и сладости, а воронки от взрывов, гибель родных, переболевших тифом и скарлатиной. Замерзавших, голодавших и ходивших в нескольких шагах от смерти. Детям войны, настрадавшимся, но всё-таки выжившим. Создавшим впоследствии семью, состоявшимся, как личность, мы посвящаем эту рубрику. Пять лет ему исполнилось Маленькому Пете Колтунову едва исполнилось 5 лет, когда началась война. Но он уверяет, что помнит всё с первого дня и до победы. Так уж устроена человеческая память: с годами мы начинаем забывать, что было вчера, однако прекрасно помним яркие моменты из далёкого детства. Тем более дети войны, многие события просто врезались в их память: слишком трагическими и тяжёлыми были первые годы их жизни на земле. Ещё до войны в его родной Ректе появилось радио. И он хорошо помнит, как из «тарелки», как называли радиоприёмник из-за его формы, вдруг сообщили, что немецкие войска напали на Советский Союз. Дети, не понимая ровным счётом ничего, вдруг почувствовали, что случилась беда: люди кричали, плакали. Кто-то спешно укладывал вещи, другие, напротив, впадали в ступор. Семья Колтуновых никуда не собиралась, ещё не решив, что делать дальше. Но уже вскоре они поняли насколько всё серьёзно и страшно: началась бомбардировка. На поле в районе теперешних аэропортовских дач до войны был настоящий военный аэропорт, на котором базировалась лётная часть. По воспоминаниям Петра Колтунова, семь двухмоторных самолётов «Ил» в первые дни войны даже не успели подняться в воздух, их разбомбили ещё на земле. Потом, видимо, ночью перепутав саму деревню с аэропортом, немецкие лётчики начали бомбить и Ректу. В огне погибло 13 человек, в том числе и родственники Петра. Из семьи его двоюродной сестры в живых осталась только годовалая девочка, которую потом воспитывала тётя. «Нас было четверо братьев: Николай, Леонид, я и маленький Василий, – рассказывает Пётр Яковлевич, – мать повела нас прятать к соседу в погреб. А тут наискосок через улицу бомба угодила в сарай, нас ударной волной свалило. Один большущий осколок, говорили, попал прямо в сундук соседа, и остался там лежать. Мать нас по огородам повела вдоль речки. Там были люди, кто плакал, кто молился о том, чтобы остаться в живых. И в первые же дни заявились немцы: только соскакивали с машин и тут же давай бить курей палками. Их обоз с провизией где-то запаздывал и они тащили все, что плохо лежит. Нас согнали с пяти-шести хат в одну. В наших домах, где кухни устраивали, где офицеры их жили. А ещё солдаты могли специально раскладывать на окне конфеты «лампасейки», и смотрели, возьмём мы или не возьмём». В деревне, насколько помнит Пётр Яковлевич, было немало евреев. И кузнец Залман, и учительница Раиса Яковлевна. Семью Залмана однажды погрузили на телегу и повезли в Горки. Когда конь поравнялся с большой лужей, немцы заставили детей лезть в лужу. Потом, играя на губной гармошке и хохоча, фашисты фотографировали ребятишек, танцующих прямо в грязи... Так они, «настоящие арийцы», развлекались. Никто из местных не мог ни вмешаться, ни возразить, боялись смерти. Самого Петю от смерти однажды спас его старший братишка. Немцев обстрелял спрятавшийся на кладбище советский солдат и те, пьяные, стали стрелять и гоняться за жителями. Братишка, дёрнув Петю за руку, затащил его под забор. Там под забором они и лежали, пока всё не стихло. Едва не угнали в Германию Так прошли долгие и голодные два года, а осенью сорок третьего жителей погнали в Оршу. Там погрузили в теплушки для отправки в Германию. Спасло тогда мирных жителей то, считает Пётр Яковлевич, что на станции не хватало паровозов. Продержав людей в вагонах три дня, немцы вновь погнали стариков, женщин и детей в сторону Болбасова. Ночевать остановились в деревне Лисуны. «А наутро ни мы, ни семья Ларковичей, не вышли, так и остались в этой деревне, – делится воспоминаниями пенсионер. – Ну, а те, кого погнали дальше, оказались потом кто в Литве, кто в Германии. И в Лисунах тоже был «хапун»: приезжали немцы из жандармерии и хватали людей для отправки в Германию. У хозяев, что нас приютили, хатка маленькая, своих детей было пятеро, спали все вповалку на полу, я – под столом. Зимой инеем покрывались от холода. А сколько переболели! Я первый из семьи тифом заболел, во рту горько, мама даст молока, а есть не могу. Братья просили у меня это молоко. Потом болели они, я просил молоко у них. И чесоткой (короста), и тифом, и скарлатиной болели. Вшами были усыпаны. А лечиться... корень конского щавеля тёрли на тёрку, добавляли масло коровье, и мазались от чесотки. Вшей «выжаривали». Потом хозяева избы попросили постояльцев уйти, и семье Колтуновых пришлось обосноваться в одной из земляных банек. Чтобы не умереть с голоду, мальчишкам приходилось просить милостыню по дворам. Избы побогаче ребятишки обходили стороной, там мало когда давали поесть, а во дворах лаяли собаки. Люди победнее делились картошкой или картофельными очистками, молоком. «Наши танки!» Советский танк, появившийся надо рвом, Петя заметил первым. Ему никто не поверил, когда он кричал: «Танки, наши танки!». Все выбегали, выглядывали. И действительно, вскоре появились не только танки, но и «катюши». Тут начался настоящий праздник. Все были рады не только освобождению, но и тому, что наконец-то можно было поесть настоящего хлеба. Маленькому Петру солдат дал 3 буханки хлеба. Это было настоящее богатство! Так красноармейцы подкармливали местное население. В те дни, в сорок четвёртом, пришло долгожданное освобождение от фашистов, возомнивших себя высшей расой и, как тяжёлым катком, проехавших по судьбам и жизням народов Европы. В Ректу семья Колтуновых возвращалась на машине, мать попросила шофёра, ехавшего в сторону Горок, подвести. Но доехали только до Свистёлок. Дальше мать пошла пешком, а дети остались дожидаться у крайней хаты. Тут, на беду, мимо деревни стали двигаться немецкие войска, видать, выходили из окружения, слышна была перестрелка. К счастью, обошлось. А вскоре на конной подводе за ребятишками приехала мама. Жизнь без немцев Приехали в Ректу, – от хаты остались только стены, ни окон, ни крыши. На огороде сплошь сорняки да бурьян. Но потом сочная лебеда и мокрица стала для обездоленных семей хорошим подспорьем. Траву добавляли в муку, картошку, пекли лепешки из картофельных плюшек. Как-то выживали, и практически сразу взялись за работу. Брали взаймы или на обмен зерно, женщины и пацаны впрягались в плуг и пахали огороды. Зарабатывали и трудодни в колхозе. Потом на 1 трудодень им давали 25 граммов костери. Эту траву перемалывали с зерном и пекли лепёшки, воспоминание о которых вызывает тошноту у детей войны по сей день. Приехали в Ректу: от хаты остались только стены – ни окон, ни крыши. На огороде сплошь сорняки да бурьян Но потом сочная лебеда и мокрица стала для обездоленных семей хорошим подспорьем Траву добавляли в муку, картошку, пекли лепешки из картофельных плюшек. Как-то выживали, и практически сразу взялись за работу. Брали взаймы или выменивали зерно, женщины и пацаны впрягались в плуги пахали огороды. Зарабатывали и трудодни в колхозе. Потом на 1 трудодень им давали 25 граммов костери. Эту траву перемалывали с зерном и пекли лепешки, воспоминание о которых по сей день вызывает тошноту у детей войны. Так для Пети Колтунова и его родных закончилась война. Но не закончились тяготы, голод и холод. Советские войска выбили немецких захватчиков, и жителям Ректы можно было больше не опасаться обстрелов, бомбежек и издевательств фашистов. Но остались ни на минуту не отпускающий голод болезни, заедавшие вши, пустые закрома и разрушенные дома. Казалось бы, засевать поля было нечем. Но старики и женщины, вернувшиеся из «беженцев» с семьями, понимали: если они сейчас не найдут семенной картофель и зерно, голод не только продолжится, но и ужесточится. Чтобы выжить, необходимо было сделать почти невозможное. И буквально по зернышку, по картофелине люди собирали семена. Потом женщины и дети впрягаясь в плуг, пахали землю и вскоре уже радовались зеленым всходам, дарившим им надежду. «Ни надеть, ни обуть было нечего, – продолжает свои воспоминания Петр Яковлевич. — Старшим покупали какие-то хлопчатобумажные вещи, младшие донашивали одежку за ними. Да и купить не за что было У нас был сад, так мама мерзлые яблоки носила на базар и продавала по 10-15 копеек. Потом пришлось спилить деревья, потому что за каждое дерево надо было заплатить 2 тысячи рублей налога. Вообще жить тогда было страшно тяжело! Заставляли подписоться на заем, отдав за это 200-300 рублей. Кроме того, с каждого двора нужно было сдать 48 кило мяса, 300 яиц, 250 литров молока и 6 килограммов шерсти. Никто не смотрел, есть у тебя скот или нет. Людям приходилось копейки собирать, чтобы купить это самое мясо в конторе «Заготскот» и потом сдать государству. Если не сдал, можешь угодить в тюрьму. У нас в Ульяшино был такой случай: женщина отсидела «от звонка до звонка». Я хорошо знал эту семью, потому то мой брат Николай вместе с ее сыном Петей поступал в летное училище. Так тот и стал потом летчиком». Отец умер рано, в сорок восьмом году. Вернулся с Фронта он только в конце 1946 года, так как был связистом и после войны восстанавливал связь, натягивая оборванные практически повсеместно провода. А в сорок седьмом у мальчишек в семье Колтуновых появилась сестренка. Казалось бы, жизнь должна была вернуться в довоенную колею, наладиться… Но в 1948 году глава семейства умер от аппендицита. А жена и дети его остались без государственной поддержки, так как не являлись семьей погибшего. Мать, которой приходилось в многодетной семье быть и за маму, и за папу, вынуждена была без отдыха стирать, штопать, готовить. Когда она не смогла выработать в колхозе необходимые З60 трудодней, один бюрократ пригрозил ей тюрьмой. По словам Петра Колтунова, мама выстроила перед чиновником всех пятерых детей и сказала: «Забирайте их! a я пойду на казенные харчи». После этих слов чинуша сел в «Победу» и укатил. Несмотря на все невзгоды и трудности, дети тянулись к знаниям. А так как ходили в школу и на улицу в добитых ботинках и ветхих пальтишках, пальцы на ногах и руках у Пети были обморожены. Но все-таки, окончив Ректенскую семилетку, он пошел учиться в Горки. И уже после окончания восьмого класса отправился получать профессию в училище механизации в Мстиславль. По тем временам это была сказка: в училище давали обмундирование и бесплатное питание. А в 1954 году Петр приехал работать в Горецкую МТС. Работал на «У-2», или «Владимирце». А уже через год его призвали в армию. Можно еще много рассказывать о Петре Яковлевиче Колтунове, отслужившем на главном испытательном полигоне Северного флота, на суровом Баренцовом море, видевшем великого конструктора Сергея Королева, Главнокомандующего флотом Сергея Горшкова и его заместителя Котова. После службы Петр работал в Донбассе, потом вернулся на родину и до пенсии работал в милиции. «3а 25 лет он не имел ни одного взыскания, – говорит жена Петра Яковлевича Анна Леонтьевна, –у Пети много медалей. А еще заработал он себе много болезней: и сахарный диабет, и гипертонию, и проблемы со щитовидкой». Сама Анна Колтунова тоже в детстве испытала все «прелести» военной поры, но это уже другая история… Г. Середникова ×
Воспоминания 
Библиотекарь Любовь Елизаровна Волчкова вместе с активистами Ректянской сельской библиотеки посещают Коробову Майю Филипповну
«Я родилась в 1930 году, в деревне Попковка Ректянского сельского Совета. Когда началась Великая Отечественная война, мне было одиннадцать лет, совсем ещё ребенок, но повзрослеть пришлось быстро. Многие жители нашей деревни помнят, как 13 июля 1941 года один из советских самолетов был сбит над Попковкой. Немецкие истребители атаковали самолет. Бой был неравным. Из горящего самолета выпрыгнули два летчика. Фашисты расстреляли их в воздухе. Третий летчик, выпрыгнувший последним, благополучно приземлился возле нашей деревни. Этим летчиком был Дмитрий Капитонович Кривчиков. В деревне он встретился с группой бойцов, попавших в окружение. Вместе с местной девушкой Дуней Ефимовой он предложил окруженцам уйти в лес и организовать партизанский отряд. Но их выдал предатель. Фашисты расстреляли обоих — и летчика, и девушку, всё происходило на моих глазах. Их похоронили на сельском кладбище. Сейчас на могиле Дмитрия Кривчикова и Евдокии Ефимовой установлен обелиск. Хорошо, что люди помнят о них, такое забывать нельзя. У нас в семье было пятеро детей, помню как немцы выгнали нас в беженцы. Мы вместе с матерью Степанидой Ивановной Коробовой очутились в лагере, в городе Шклове, на какой-то старой заброшенной конюшне. Позже немецкие солдаты перегнали нас в деревню Горшково Шкловского района. В июне 1944 года немцы согнали всех к погребу, деревню Горшково сожгли, а всех жителей и беженцев хотели расстрелять, но прибежал немецкий солдат, что-то сказал карателям на немецком и те быстро уехали. Мы остались живы. Разве не чудо? Освободили нас солдаты Красной Армии. Разгорелся жестокий бой, горели небо и земля, гремели выстрелы и взрывы. Мы с матерью спрятались в погребе, красноармеец принес нам одеяло, потому что было холодно и очень страшно. На утро всех перегнали в деревню Стростно, затем к Днепру. На машине вместе с солдатами мы доехали до Горок. В родную Попковку пришли пешком. Я увидела войну глазами ребенка. И память крепко держит все события тех горьких и тяжелых военных лет. Переход к мирной жизни был долгий и тяжелый, но никто не посмел бы жаловаться, потому что у нас было самое главное — чистое и мирное небо над головой. Работала я в сельском Совете, а затем в Ректянской библиотеке техничкой». М. Коробова ×
Детство, опаленное войной Майя Филипповна Коробова родилась в 1930 году в деревне Попковка Ректянского сельсовета в большой крестьянской семье. Когда началась война, у Коробовых было пятеро детей. Как сейчас помнит Майя Филипповна тот день, как всей семьей провожали на фронт отца Филиппа Моисеевича. Это было воскресенье. Вышли за деревню. Отец плакал, перецеловал всех детей и ее, Майю. В 3 годика после болезни у нее заболела нога. Куда только не возил ее отец по больницам, в санатории, Майя стала инвалидом с детства. Так и не увидели больше дети отца. В 1945 году пришло извещение, что Коробов Филипп Моисеевич пропал без вести 3 августа 1943 года. А воевал он на Курской дуге... Мать, Степанида Ивановна, и все пятеро ее детей продолжали верить в то, что их муж, отец жив и обязательно вернется. Но не вернулся Филипп Моисеевич. В войну жили в оккупации. Майя Филипповна помнит тот день, 13 июля 1941 года, когда фашисты на глазах у односельчан расстреляли комсомолку Ефимову Евдокию Евстигнеевну и военного летчика Кривчикова Дмитрия Капитоновича. Майе было 11 лет, когда она впервые в своей жизни увидела ужас страшной трагедии. В их доме стояли немцы. Там была немецкая кухня. А они с матерью жили в сарае. Осенью 1943 года немцы выгнали всех жителей деревни Попковка, старых и малых, и погнали в сторону Шклова. Остановились в школе д. Тросинка Шкловского района. Потом уже в Шклове немцы загнали всех в сарай, хотели заживо сжечь. Стоял декабрь 1944 года. Было очень холодно. В сарае было много людей с Горецкого и Дрибинского районов. Среди них был и священник. На праздник Николы он стал молиться и все последовали ему, прося помощи у Господа. Немцы услышали молитву, открыли сарай и не стали сжигать. Выпустили людей из сарая и погнали дальше. В конце концов, оказались Коробовы в деревне Горшково, неда¬леко от Круглого. Жили здесь у хозяев. Потом хозяйка дома умерла от тифа. Деревня располагалась в лесу, в партизанской зоне. Майя Филипповна помнит партизанского командира Костюшкина. Однажды отряд во главе с командиром захватил немецкий танк и перекрыли путь на Круглое. Завязался страшный бой. Деревня несколько раз переходила из рук в руки. Немцы вывели всех мужчин из деревни и расстреляли на кладбище. Среди них был и хозяин дома, у которого жила семья Коробовых. Деревню сожгли. Сколько же там полегло наших солдат!!! Немцев тоже. Они отступали под натиском наших войск и все крошили на своем пути: жгли, убивали. Эти ужасы видела 13-летняя девочка. Они и сейчас стоят у нее перед глазами. Как немецкий танк раздавил 20-летнюю дочь хозяина, как падали убитыми совсем молодые наши солдаты в бою за деревню Горшково. После освобождения деревни всех завезли в Шкпов. Здесь и нашел их дядя, Коробов Михаил Илларионович. До войны он работал в милиции и вместе с войсками освобождал Круглое. Он и помог вернуться детям в родную деревню. Дом их уцелел, но вещей, которые перед отъездом закопала мать, не оказалось. Голодали. Майя Филипповна со слезами вспоминает и послевоенные годы. Закончила 3 класса Ректянской школы. Болела нога. В 1951 году ей в Могилеве сделали операцию. Долгое время ходила на костылях. Дали ей вторую группу инвалидности. Училась в Горках на швею. Заболела вторая нога. Врачи запретили ей ходить. Когда немного поправилась, стала работать в Ректянском сельском Совете и библиотеке техничной. Работала на совесть. Добрая, отзывчивая на чужую беду. Не боится никому сказать правду в глаза. Справедливая. Человечная. Своего личного счастья не имела. Но помогала растить племянников, потом детей племянников, ухаживала за своей парализованной матерью. По ее жизни, по ее детству прошла война. Она отняла у нее отца и здоровье. Майю Филипповну всегда в День Победы приглашают на митинги и встречи с ветеранами. Она приходит и глаза ее застилают слезы. «Ох, если бы не война...» Л. Волчкова ×
Судьбою из огненных лет 
М. Коробова с сыном погибшего летчика Кривчикова Рудольфа Дмитриевича на Горецкой земле, 1985 г.
Майя Филипповна Коробова родилась в 1930 году в д. Попковка. Когда началась война ей было 11 пет. В 1941 году, 14 июля, на её глазах расстреляли комсомолку Евдокию Ефимову и военного лётчика Кривчикова Дмитрия Капитоновича, могила которых находится в д. Попковка. Помнит, как немцы гнали в "беженцы " всю её семью: мать и пятеро детей. Пешком до Шклова их вёл немецкий конвой с собаками. Мать, Коробова Степанида Ивановна, с детьми оказались в лагере. Сначала очутились в старой конюшне А вскоре и вовсе спали на снегу, голодали. Затем немцы перегнали их в деревню Горшково Шкловского района. Там и дождались освобождения. Помнит, как в 1944-м немцы согнали всех к погребу, а деревню Горшково спалили. Жителей и беженцев хотели расстрелять, но в последний момент прибежал немец, что-то сказал карателям и те быстро уехали. Так чудом остались живы. Отец погиб на фронте. А девочка Майя осталась инвалидом. Немцы сломали ей ногу. Срослась неправильно. Заболела на туберкулёз кости. На всю жизнь осталась инвалидом. Работала в сельсовете и Ректянской библиотеке техничкой. Л. Волчкова ×
Война в судьбе человека Когда началась Великая Отечественная война, простые женщины заменили ушедших на фронт мужчин на производстве в тылу, делая тяжелейшую работу, а в военных госпиталях спасли не одну жизнь. Они выполняли вспомогательные работы в действующей армии, входили в состав партизанских отрядов и, наконец, воевали на передовой. Накануне Дня Независимости нашей страны корреспондент «Горецкого вестника» пообщалась с участницей Великой Отечественной войны, инвалидом войны Екатериной Давыдовной Канышко. Она поделилась своими воспоминаниями о пережитом. Начало оккупации – Наша семья жила в деревне Чистики Ленинского сельского Совета. Когда началась война, мне было 14 лет. В мирное время казалось, что вся жизнь впереди. Я училась в школе, помогала родителям по хозяйству и присматривать за младшими братьями и сестрами, нас в семье было девять. Но война нарушила все планы и мечты. 22 июня 1941 года страшная весть быстро разнеслась по селу. В первые дни войны мы увидели страшную силу немецкой военной машины. Во время бомбежек было очень жутко. За все время оккупации мы так и не привыкли к звукам взрывов и выстрелов. Несмотря на карательные меры, жесточайший запрет на помощь партизанам, сельские женщины поддерживали их как могли. Зима 1943-го – В деревне стоял фронт. Жители помогали нашим солдатам чем могли. В родительском доме жили несколько военных. Мы, как говорится, поили и кормили их. Случалось, и раны перевязывали. Зимой многие из сельчан были задействованы на расчистке дорог. Нелегко было. Приходилось рыть тоннели от Чистиков до Ленино. А снег был не то, что сейчас. Сугробы достигали до метра в высоту. Я всю войну боялась, чтобы ноги не покалечило. Мужчине это не так страшно. Он все равно – герой, жених! А женщину покалечит, так это судьба ее решится. Женская судьба. И вот однажды, когда мы расчищали снег, рванул снаряд. Погибла моя одноклассница, мне попал осколок в ногу. Я потеряла сознание. Меня доставили в Смоленский госпиталь. Когда очнулась, ногу уже ампутировали.... Все тело ныло, предметы казались расплывчатыми, в левом бедре ощущалась сильная боль. Так в 16 лет и решилась моя женская судьба. Пока я была в госпитале, мою семью, как и всех односельчан, эвакуировали в беженцы в Смоленск. Мирное время Закончилась война, отгремели салюты Победы. Настала мирная жизнь. Началось восстановление разрушенных городов и деревень. Голод военных лет, незаметно перешел в послевоенные годы. Потянулись к родным местам изможденные отцы, мужья и братья. Женские слезы видела каждый день, когда приходили похоронки-извещения о погибших и без вести пропавших. По окончании войны верилось: все самое худшее позади, вот теперь мы заживем. После возвращения в Чистики уцелевшим мужчинам, детям, старикам и женщинам нужно было впрягаться в плуги, бороны, брать в руки серпы и косы, грабли и вилы. Лошадей в деревне почти не было. У кого были коровы, приходилось пахать и на них. Я решилась на отважный шаг и перебралась в Горки, где нашла работу швеи в артели. Шить приходилось все подряд, но удачней у меня выходили мужские брюки. После шила только их. Так и проработала всю жизнь... В беспощадном огне войны страна потеряла очень многих девчонок, девушек и женщин. Они отдали свои жизни во имя Родины, нашей страны и независимости, сегодняшней мирной жизни. Ольга Данилькевич ×
Хлеб Доўгія полы старога чорнага паліто хавалі кволае цела хлопца. Здаецца, яго там зусім і не было пад адзеннем. Паліто было не па росту, сядзела мешкавата і рабіла хлопца падобным на чорны квадрат. Толькі гэты квадрат рухаўся, а калі дзьмуў моцны вецер, прымаў форму нейкай няправільнай, невядомай геаметрычнай фігуры. Валодзька не помніў, адкуль яно з’явілася сярод іхняга дамашняга набытку. Паліто, мабыць, прынесла аднекуль маці. Яно бараніла хлопца ад колкага ветру і троху ад холаду. Праўда, калі было ўжо вельмі ветрана, то доўгія чорныя полы развіваліся, агалялі хударлявае дзіцячае цела – і вецер пранізваў аж да касцей. Тады Валодзька абкручваў сябе рукамі, туліўся ў колкі драп і марыў пра цёплую печ. Хацелася дамоў, легчы на голыя чараны, сагрэцца, а яшчэ абавязкова пад’есці. І заснуць. Заснуць і забыцца. На гэты холад, чужую вёску, вайну. Але не было ні печы, ні свайго вугла. Яны туліліся ў чужым хлеўчуку ўсёй сям’ёй. Было бедна, холадна і голадна. Даводзілася, як людзі кажуць, жыць, як набяжыць. А набег на іх германскі фашыст. Колькі людзей ужо загубіў на Валодзькавай памяці. Дзе зараз суседзі, сябры, проста добрыя знаёмыя? Многіх няма. Знішчыў няпрошаны госць. Памятае хлопец, як гітлераўцы ўпершыню з’явіліся ў вёсцы: хапалі ўсё са двароў. Забіралі курэй, білі на падворку парасят, адразу смажылі і жэрлі. Як хацелася Валодзьку яшчэ тады плюнуць у іх морды і разарваць агідны рот, які выдаваў: «матка, яйка!». Ды была толькі злосць, а сілы ніякой. Праўда, смешна было і нават неяк горда, калі цётка Марына на гэта фашысцкае «матка, яйка!» з усмешкай гукнула: – «На, гад, падавіся, хай цябе разапрэ!». Гансік схапіў яйкі і таксама з усмешкай нешта загергетаў па-свойму. Думаў, што яму тут рады, дабра жадаюць. – Вось фашыстаў ўжо і стала распіраць, – думаў Валодзька, ідучы насустрач колкаму ветру, – гоніць іх наша армія, так вам і трэба, гады вы, гады! Аднак гэта ўсё думкі, хоць і суцяшальныя. А пакуль Валодзька проста бежанец. Ён жыве са сваімі бацькамі ў вёсцы Коханава і гэтаму рады. Бо, хто з іх вёскі не бежанец, – той мёртвы. Фронт рухаўся на Дрыбін, фашысты звярэлі, злаваліся, гналі людзей з наседжаных месцаў. Ратаваліся, хто як мог. Людзі збіраліся сем’ямі, беглі к лесу, у балоты. Хацелася пераседзець, перачакаць, сустрэць сваіх. Усіх, хто нанач уцёк у лес, фашысты палічылі за партызан, вылавілі і расстралялі. Там, у балотах, засталіся іх аднавяскоўцы Жалудовы, Архаламавы, Смаляковы і шмат яшчэ каго. А ён, Валодзька, жывы! Ён бежанец. І не думаў, што будзе насіць такое званне. Што за слова такое? Валодзька ўспомніў, як ён пад Новы год «атрымаў» ад фашыстаў падарунак. У Коханаве стаяў лазарэт. Там немцы падлечвалі параненых салдат. Іх вельмі добра даглядалі, кармілі, паілі. У лазарэт прывезлі пад Новы год пачастункі для фашыстаў. П’янаватыя, яны пад вечар разгружалі машыну. Валодзька назіраў за гэтым з-за разлапістых елак. Бачыў, як у вялікі сугроб з рук аднаго з фашыстаў выпаў скрутак. П’яныя ногі яго затапталі. Калі ўсё сціхла, хлопец паўзком дабраўся да таго месца, знайшоў скрутак і, не ведаючы што ў ім, можна сказаць на чатырох, даставіў кулёк да бліжэйшага куста. Калі ўбачыў, што ў ім цукеркі, нават тэмпература паднялася, ледзь прытомнасць не страціў. Такога падарунка да свята ён ад фашыстаў не чакаў. Добра, што не заўважылі, а то… Валодзька добра памятаў ласку фашысцкую. Каля лазарэта ён часта бавіў час. Бывала, змілуецца каторы і выкіне кавалак хлеба або паўабргрызеную костку. Хутчэй сабакі лавіў хлопец тое, што вылятала праз акно. Калі фашысты хацелі пазабаўляцца, маглі кінуць проста скрутак паперы ці каменьчык. А хлопец падбіраў ўсё, акуратна абціраў ад бруду і зносіў з сабой. Усё, што можна было спажыць. Ведаў, што лепшага чакаць неадкуль. Есць Валодзьку хацелася заўсёды. Нават калі спаў, лавіў сябе на тым, што ў сне варочае вуснамі, нібы нешта смакуе. Прачынаўся ад гэтага і яшчэ доўга прычмокваў, глытаючы сліну. А тут – цукеркі. Радасці было! Прынёс дадому і не мог зразумець, чаму плакала маці. Валодзька піхаў ёй цукеркі ў рукі, думаў гэтым высушыць матчыны слёзы. Ды не атрымлівалася: плач перайшоў у доўгі енк, маці загаласіла. Валодзька зашыўся ў вугал і пачаў смактаць цукеркі. Усведамляў, што яны фашысцкія, а значыць для яго – агідныя, ды як дзяцяці у такім голадзе можна ўтрымацца ад «пачастунку»? Так праходзіла жыццё ў бежанцах. Дзень за днём сноўдаўся хлопец па мястэчку, каб здабыць што-небудзь паесці. Часцяком дзяжурыў каля лазарэта, чакаў машыну, якая прывозіла хлеб. Некалькі разоў яму загадвалі яе разгружаць. Вось і на гэты раз пад’ехала машына са шчыльна закрытым верхам. Шпарка з-за руля выскачыў таўставаты фашыст, абвёў позіркам наваколле і, убачыўшы хлопца, загадаў: «Ком, ком!». Валодзька падбег да машыны. За разгрузку ён іншы раз атрымліваў сплюшчаныя кавалкі пахучых боханаў. А потым, што ёсць сілы, імчаў дадому. Напярэдадні маці ўшыла ў паліто вялікую кішэню, якраз на бохан хлеба. Ён павінен быў добра легчы ў схованку, а шырокае паліто схаваць здабычу на целе хлопца. Машыну разгружалі хутка. Фашыст неяк затарокаўся – і бохан непрыкметна каўзануў у Валодзькаву кішэню. Чаму немец пабег у прыбудову, Валодзька зразумеў не адразу. У нейкае імгненне хлопца працяла жудасная думка: фашыст заўважыў. І ён што ёсць сілы ірвануў да крутога берага. Толькі б паспець, толькі б паспець – мроілася ў галаве. Грукнуў стрэл… Разам з ім хлопец праваліўся ў бездань. Апрытомеў толькі на самым дне кручы, у пяску. Валодзька не мог падняцца з месца, глядзеў на неба і плакаў, так ціханечка, нібы мыш папісквала. Побач з ім ляжаў бохан хлеба. У ім збоку зеўрала дзірка. У той вечар да хлеба ніхто не дакрануўся. Людміла Дзёменская ×
Воспоминания 
Полина Николаевна с правнучкой Сашей
«Родилась я в 1924 году, в деревне Ректа. Окончила семь классов Ректянской семилетней школы. Работала в колхозе животноводом. Когда началась война, мне было 17 лет. В 1943 году глубокой осенью рано утром в Ректу приехали немцы. Молодежь посадили на машину и увезли. Все решили, что немцы гонят нас в беженцы, но оказалось нет. Так я попала в Германию, в фашистскую неволю. Меня отправили работать на кабельный завод. Но вскоре пришли немцы, которые искали для себя домработницу. Они забрали меня к себе в деревню присматривать за коровами. Я просыпалась рано утром, чистила, доила, кормила животных. А мои хозяева каждое утро шли в церковь. Меня кормили отдельно, спала я на втором этаже в хозяйском доме. В 1945 году фронт подошел к той местности, где жили мои хозяева. Когда бомбили мы прятались в подвале. Вскоре нас освободили. Из Германии я вернулась на родину. В Ректе я вышла замуж, вырастили с мужем Михаилом Федотовичем трое детей: дочерей Лидию и Екатерину и сына Виктора. Я работала на ферме животноводом. С мужем жили душа в душу, всегда понимали и поддерживали друг друга. Помогли детям получить образование, устроиться в жизни. Растили внуков, теперь помогаем растить правнуков». П. Калиновская ×
Судьбою из огненных лет Калиновская Полина Николаевна родилась в 1924 году в д. Ректа Горецкого района, Могилёвской области. Закончила 7 классов Ректянской семилетней школы. Работала в колхозе животноводом. Глубокой осенью 1943-го рано утром в Ректу приехали немцы. Молодёжь посадили в машину и повезли. Все думали в «беженцы». Так девушка попала в Германию, в фашистскую неволю Сначала работала на кабельном заводе. Потом явились «бауры» и забрали к себе – работать на домашней ферме. У хозяев было 6 коров. Поднималась с рассветом — чистила, доила кормила животных. А сами хозяева каждое утро отправлялись молиться. Кормили отдельно. Спала на втором этаже, что-то вроде нашего чердака, в хозяйском доме. 3 1945 году фронт подошёл к той местности. Когда бомбили, пряталась в подвале. Освободили американцы. Деревенская девушка, никогда не видевшая негров, с изумлением гадала, зачем американские солдаты вымазали себя сажей. Добралась домой. Снова работала на ферме, в колхозе. Вышла замуж. С мужем Михаилом Федотовичем, вырастили троих детей. Всем дали образование. Старшая дочь Лидия работает в центре социальной защиты, вторая дочь Екатерина живёт в Гродно, работает медсестрой. Давно умер муж. Младший сын Виктор, надежда и опора матери, умер в канун Нового, 2014-го, года. Выросли внуки Сергей, Андрей, Наташа, Лена, Татьяна, Дмитрий. Получили высшее образование. Теперь у бабушки Поли трое правнуков! Л. Волчкова ×
Воспоминания «Я родилась в 1925 году в деревне Михайловичи Маслаковского сельского Совета. Очень рано от болезни умерли мои родители. У нас в семье было восемь детей. В десять лет я осталась сиротой. Окончила восемь классов Маслаковской средней школы, поступила в Оршанское медицинское училище, успешно окончила первый курс. Но дальше продолжить учёбу не удалось, необходимо было внести деньги на ремонт здания медицинского училища, денег не было, в связи с этим пришлось оставить учёбу. Когда началась Великая Отечественная война, мне было шестнадцать лет. Мы жили в доме вместе с младшей сестрой. Когда немцы бомбили, мы прятались в землянке, которая находилась недалеко в лесу. В соседней деревне Напрасновка жили евреи. До войны у них был свой колхоз, где они работали. Еврейское население очень дружелюбные люди, мы дружили, вместе ходили на танцы. Но во время войны их настигла ужасная участь. Многие евреи, проживавшие в Напрасновке, не хотели уезжать в эвакуацию. Они думали, что смогут договориться с немцами. Но этого сделать не удалось. Все те, кто не уехал в эвакуацию, были расстреляны немцами. Возле деревни был большой ров, у которого совершались массовые расстрелы. Людей туда свозили со всей округи и убивали сотнями. Однажды в деревню приехал карательный отряд, все население согнали вместе. Поставили русских в одну колонну, евреев в другую, всех погнали к яме. Немцы стреляли в евреев, те падали в яму. Тот ужас, который я испытала после расстрела на моих глазах безвинных людей, остался в памяти навсегда, маленькая девочка упала, фашист целился в нее с автомата, не попал. Она прижалась к маленькой березке. Немец увидел, что она жива, вернулся и выстрелил в нее автоматной очередью. Крик разорвал тишину. Яму с мертвыми и живыми людьми присыпали землей. Яма ходила ходуном. Много тяжелых испытаний выпало на долю каждого человека, да и всего советского народа во время войны. Победа в Великой Отечественной войне досталась всем очень дорогой ценой. После окончания войны я работала страховым агентом в Маслаковском сельском Совете, затем перешла в Ректянский сельский Совет. Здесь я встретила свою любовь. В Ректе построили дом, родились дети: дочь Галина и сын Валерий. Работала в совхозе «Горецкий» в животноводстве, на птицеферме, в овощеводстве. Сейчас нахожусь на заслуженном отдыхе, выросли внуки, получили высшее образование, уже правнуки учатся в высших учебных заведениях. В жизни было много трудностей. Пережила послевоенный голод, разруху, дважды горел дом. В 1980 году при пожаре погиб мой муж, но я выстояла, не сломилась. Жила, растила и учила детей и внуков. Теперь работаю по хозяйству. Заканчивая свой рассказ, я хочу обратиться ко всему молодому поколению! Чтобы не повторилась эта страшная война, чтобы жизнь на земле не содрогнулась от разрывов бомб и снарядов, чтобы не плакали матери, помните — какой ценой досталась Победа! Берегите мир! Берегите память!» Е. Блиндерова ×
Судьбою из огненных лет Екатерина Даниловна Блиндерова (Пищикова) родилась в 1925 году в д. Михайловичи Маслаковского сельсовета. Рано от болезней умерли родители. В семье Пищиковых было 8 детей. В 10 лет осталась сиротой и она. Закончила 8 классов Маслаковской средней школы. Поступила Оршанское медицинское училище, Успешно закончила первый курс. Необходимо было внести взнос на ремонт здания медучилиша. Денег не было. Пришлось оставить учёбу. Началась Великая Отечественная война. Жили с младшей сестрой. Когда немцы бомбили, прятались в лесу, в землянке. В соседней деревне Напрасновка жили евреи. У них до войны был свой колхоз, где они работали. Молодёжь дружила, вместе собирались на вечеринки, танцевали. Очень хорошо помнит Екатерина Даниловна девочек Перлу Финкенштейн и Фиму Фрейду. Однажды в деревню нагряну карательный отряд. В конце деревни возле леса выкопали яму. Согнали всё население. Разделили: русских в одну шеренгу, евреев в другую. Всех подогнали к яме. Немцы начали расстреливать евреев. Те падали в яму… Этот ужас остался в памяти навсегда. Вот, упала маленькая девочка. Фашист, который целился в неё из автомата, видимо, не попал. Она прижалась к молоденькой берёзке. Фашист, увидев, что жертва жива, вернулся и выстрелил в девочку автоматной очередью. Крик ужаса разорвал тишину отчаянья. Яму с живыми и мёртвыми людьми присыпали. Земля на ней ходила ходуном. Жителей деревни заставили чистить дорогу от снега. Поздно ночью вернулись в деревню. Полицаи стерегли еврейские дома, Молодой парень-еврей Иван поздно ночью пришел в деревню. Его схватил полицай Прохор. Иван вырвался и убежал в лес. Полицай со своей семьей поселился в еврейском доме. После войны Иван вернулся в Напрасновку. А навстречу ему идёт бывший полицай-убийца Прохор. Иван схватил его и доставил в сельсовет. Прохора судили. После войны Екатерина Пищикова работала страховым агентом B Маслаковском сельсовете. Затем перешла работать страховым агентом в Ректянский сельсовет. Здесь встретила свою любовь и судьбу — Виталия Блиндерова. В Ректе построили дом. Родились дети: дочь Галина и сын Валерий. Работала в совхозе «Горецкий»: в животноводстве, на птицеферме, в овощеводстве. Стаж работы — 43 года. Пролетели годы. На пенсии уже и дети. Дочь Галина, в свое время закончившая Могилёвское кулинарное училище, проработала поваром в Столовой БГСХА. Сейчас на заслуженном отдыхе. Сын Валерий, по образованию медицинский работник, тоже пенсионер. Живёт в Могилёве. Выросли внуки. Получили высшее образование. Уже правнуки учатся в вузах. Всего хватило в жизни. Пережила послевоенный голод и разруху, дважды горел дом. В 1980 году в таком пожаре погиб муж. Но и здесь выстояла не сломилась. Продолжала жить строилась по новой, растила и учила детей. И теперь, в свои 88 лет, работает по хозяйству. Остается только пожелать уважаемой Екатерине Даниловне такой же стойкости, здоровья и оптимизма еще на многие годы. Л. Волчкова ×
Ганначкін хлеб
Дзіцячыя гады яна ўспамінае з сумам, бо жылі бацькі небагата. Шмат працавалі, дзеці таксама дапамагалі ім. Можа такая цяжкая праца з малых год і падштрухнула яе да думкі пасля школы паехаць у горад, каб вучыцца далей, набыць якую спецыяльнасць... Ды марам не суджана было збыцца. Пачалася вайна. З’явіліся ў іх вёсцы партызаны. Жылі па хатах, а потым перайшлі ў лес, які абступаў вёску з трох бакоў. У асноўным гэта былі акружэнцы з-пад Магілёва. Яны часта наведваліся ў вёску, і мясцовыя жыхары падтрымлівалі з імі сувязь, асабліва моладзь. Тамара Крысікава на машынцы друкавала лістоўкі, а Ганначка з такімі ж падлеткамі, як сама, пільна сачылі, каб не з’явіліся ў вёсцы немцы. У пачатку 1943-га партызаны вырашылі змяніць месца дыслакацыі і перайсці ў лес пад вёску Чапялінку. Там якраз размяшчаўся 112-ы партызанскі атрад пад камандаваннем В. Д. Шарава. Разам з імі і іншымі маладымі жыхарамі пайшла і Ганначка. Бацькі не адпускалі, але яна ўцякла з двара. У атрадзе Ганначку залічылі ў другую роту і даручылі ахоўваць ваду. Выдалі вінтоўку, а тая большая за дзяўчыну. Калі камандзір роты ўбачыў, як Ганначка стаіць на варце, шкада яму стала. Прыгарнуў яе да сябе і з болем у сэрцы сказаў: «Дзяўчынка, дзяўчынка, табе б яшчэ ў лялькі гуляць, а не вінтоўку трымаць у руках». Адправіў камандзір Ганначку ў гаспадарчы ўзвод. Там даручылі ёй вельмі адказную справу – пячы хлеб. Дзяўчына гэта ўмела і вельмі добра. Навучыла яе маці. Хлеб з рук Ганначкі атрымліваўся духмяны, апетытны. I чула яна ад партызан словы падзякі, калі тыя садзіліся за стол снедаць ці абедаць. А як ішлі на заданне, заўсёды бралі ў кішэню акраец Ганначкінага хлеба. У 1944 годзе партызанскі атрад пакінуў Чапялінскі лес і перайшоў у Сахараўскі. Ганначка вярнулася дамоў. Шлях да яго быў цяжкі і рызыкоўны. Некалькі разоў трапляла ў нямецкую засаду. Прыходзілася хавацца, пакуль немцы пройдуць. Засталася жывая, а страху нацярпелася на ўсё жыццё наперад. Пасля вайны Ганна Аляксандраўна так і засталася ў вёсцы. Працавала ўвесь час у калгасе цялятніцай, потым даяркай. Жыла з сям’ёй брата, дапамагала гадаваць дзяцей, весці гаспадарку. Цяпер жыве адна, у той жа вёсцы Клін. Ганна Аляксандраўна мае пасведчанне партызана, узнагароджана медалямі. Л. Шылава, ×
Путь через ад к свободе Автор этой статьи – наш земляк, уроженец д. Мошково Горецкого района, пенсионер и подранок войны Виктор Федосович Лукутин. Радость безоблачного детства у него отняла война. Как и миллионы белорусских ребятишек, он прошел через ад фашистской оккупации. Ему удалось пройти через все это и остаться живым. В 1966 году окончил экфак Белсельхозакадемии, после которой по направлению отработал 20 лет в Климовичской райагропромтехнике, а затем еще 14 лет до выхода на пенсию главным экономистом Климовичского райсельхозпрода. Виктор Федосович часто, почти каждый год, наведывается в родные края, потому что никогда ему не забыть того, что пережил и через что пришлось пройти. С приближением 60-летия освобождения Беларуси с болью в сердце вспоминаются годы военных испытаний, выпавших на мое детство. У моего поколения оно было лишенное материнской и отцовской ласки. Испытали муки и ад концлагерей, тяжкие версты беженцев под ежедневным страхом смерти. И после войны, мы, ее подранки, ходили в лаптях, рваной одежде, помогали женщинам пахать на себе землю. Волей судьбы в 10-12 лет мы становились взрослыми. Многим не суждено было выжить, уцелеть и до-жить до этого времени. По воле Божьей моей семье и мне удалось выжить, пройдя все невзгоды и испытания. Об этом и хочу рассказать. Страшную весть о войне жители деревни Мошково узнали от почтальона, который принес из Городецкого сельсовета повестки по мобилизации мужчин в армию. Радио, телефона, электричества в деревне не было. Получил такую повестку и мой отец, Федос Лавренович, участник финской войны. Попрощавшись с матерью и детьми, отец ушел в Дрибин. Ушел навсегда... Моя мама, Мария Матвеевна, осталась с тремя малыми детьми. Старшей Нине было 9 лет, Соне 5, а мне исполнилось два годика. Через две недели 12 июля 1941 года немцы заняли Горки, а спустя два дня и Дрибин. Дорога к Мошково, что в 15 км от Дрибина, и располагалась в большом лесном массиве, была разбита. И поэтому немцы появились не сразу. Но однажды добравшись, начали наводить свои порядки. Забирали у населения скот, птицу, зерно, вели себя нагло и безнаказанно. Так продолжалось до 1942 года. Начали давать о себе знать партизаны, которые располагались в Мошковском, Рекотском и Добровском лесах. Отряд составляли жители местных деревень: Левкины – Иван, Андрей и Тимофей, братья Авдашкины и многие другие. Кончилась спокойная жизнь у оккупантов. Партизаны разгромили Панкратовский, Любужский, Городецкий, Трилесинский полицейские участки. Устраивали диверсии на железной дороге Орша-Кричев. Сожгли Самодумский мост, который имел стратегическую связь между Горками и Могилевом, а также лесопильный завод, мельницу. Делали засады на фашистов и уничтожали их. Деревня Мошково была центром координации действий партизан. Жители деревни всячески помогали им продуктами, одеждой. Моя мама в строгой тайне пекла для них хлеб из муки, которую они приносили. Немцы предпринимали попытку уничтожить партизанский отряд. Но народные мстители уходили от преследования, а затем с новой силой наносили удары по фашистам. Дрибинская и Горецкая немецкая комендатуры не могли сами справиться с партизанами и стали просить подкрепления из Орши. Узнав о готовящейся блокаде, часть партизан ушла в темнолесские леса, а часть за линию фронта. Из Орши прибыло немецкое военное подкрепление и началась блокада. Каратели заняли все деревни вокруг леса, где базировались партизаны: Сахаровку, Тимоховку, Рябки, Шатнево, Бирь, Городецк, Язычково, Ермаки, Абраимовку, Мошково, Рекотку, Добрую. Для этого были использованы из Горок несколько самолетов-разведчиков типа «Рама». Но и здесь фашисты просчитались. Партизаны выскользнули из кольца блокады. В отместку гитлеровцы затем расстреляли многих мирных жителей этих деревень. В начале 1943 года фашисты решили уничтожить всех жителей вместе с деревней Мошково за связь с партизанами. Из Горок готовился выехать немецкий карательный отряд, но за день до проведения карательной операции связной партизанского отряда из Рекотки сообщил об этом жителям Мошково. Все они спрятались в лесу, в Жеванском или Глубчинском болотах, прихватив с собой небольшие запасы пропитания. На следующий день на рассвете в деревню прибыл карательный отряд, но не обнаружив жителей, все дома зажгли. Многие мужчины залезали на самые высокие деревья и со слезами на глазах смотрели на погибающую в огне деревню. Женщины плакали навзрыд. Ведь стояла зима 1943 года, у многих малые дети. Где жить? Чем питаться? Как спасти детей от холода, голода, болезней? Это были самые больные вопросы для всех жителей. Моя мама с тремя детьми и бабушкой расположились в густом ельнике на берегу Глубчинского болота. Выкопали яму метра полтора глубиной, над ней установили шалаш из лапок. Дно ямы тоже устлали лапками: стояла холодная зима. На матери и бабушке были шубы. Ночами, как курицы-наседки, они по очереди сидели над нами, детьми, и согревали нас своим теплом. Был небольшой запас муки, варили кулеш, питались горелой и мерзлой картошкой, которая осталась под полом сгоревшей хаты. Весной из первых липовых листков пекли хлеб, собирали на поле гнилую картошку. Летом ели траву, лебеду, ягоды, осенью грибы. И так мы прожили в лесу почти 9 месяцев... Костер разжигать боялись, чтобы не выдать себя, поскольку непрерывно летал самолет-разведчик. Многие семьи из деревни расположились неподалеку от нашей землянки. В сентябре 1943 года войска Красной Армии вступили на территорию Могилевской области. Были освобождены Хотимск, Костюковичи, Климовичи, Кричев, Дрибин, Мстиславль, Славгород, Краснополье и вышли в Чаусском районе к реке Проня. Основные силы партизан перебазировались в Белыничский и Мстиславский районы. С приближением фронта немцы пытались освободить свои тылы от партизан, чтобы можно было вести перегрупиировку войск. В начале октября 1943 годи они решили прочесать лес и покончить, с партизанами. Но те, узнав об этом, уходили в другие леса. Прочесывание леса немцы начали со стороны деревни Рябки и вскоре нашли нашу землянку. Еле выбравшись из нее мы, грязные, вшивые, доведенные до рахита от недоедания, даже не успели прихватить свои пожитки. Немцы бросили в землянку гранату, от взрыва которой все сгорело. Бабушку, сестричек и мамашу со мной на руках немцы погнали в Рекотку. Здесь уже были многие жители деревни: Исакова Арина с сыном Федей, Авдашкнна Лида с матерью, Авдашкин Ларион, Исакова Нина – подростки 8-10 лет и многие жители других деревень. С помощью полицаев немцы стали разбираться: кто есть кто? Многих стариков и детей расстреляли за то, что их родственники были связаны с партизанами. Затем нас погнали в Шклов, оттуда – в распределительный лагерь в Могилеве, где мы пробыли несколько дней, здесь нас разделили на две группы. Молодых и здоровейших погрузили в отдельный товарный вагон, а стариков и детей – во второй, забитый людьми. Куда везли – не знали. Чтобы ходить по нужде, мужики ножом в полу вагона проковыряли отверстие. Так везли нас две недели то вперед, то почему-то назад. Многие от холода, голода и болезней умерли. Свирепствовал тиф, поэтому немцы боялись с нами общаться. Открывали двери вагона редко и то если стучали, чтобы забрать умерших. Редко где давали нагреть воды. Привезли в Лунинец, многих высадили из вагона, а нас повезли дальше, до станции Лунино этого же района. Высадили из вагона. Поскольку мы, дети, были больные и обессиленные (я болел тифом), нас посадили на подводу и отвезли в Любча и поселили в пустой сарай на окраине деревни. Через некоторое время в него заглянул хозяин. Посмотрел на нас, бедолаг, и предложил перейти к нему в дом. Это был человек добрейшей души – Жданович Афанасий. Он первым делом обогрел нас, покормил, помог с одеждой. И в этом было наше спасение от неминуемой гибели. У него тоже были дети: Надя, Люба и Миша. Чтобы выжить, ходили с торбой, попрошайничали у населения. Мама с бабушкой пряли пряжу, ткали полотно. Старшая сестра Нина была нянькой в одной деревенской семье, за что она давала нам на пропитание. Летом 1944 года немцы привлекали женщин и мужчин копать окопы (в т. ч, и мою мать), стирать им белье. Летом по найму пасли овец, коров, помогали жителям деревни пахать, сеять, убирать урожай. За это получали еду. Помню, где-то в начале июля 1944 года немцы забеспокоились. Начали собирать свое снаряжение и забирать с собой молодежь для отправки в Германию. Жители деревни, чувствуя беду, стали прятаться в лесу, болотах. Мы также спрятались на островке болота вместе с семьей нашего спасителя Ждановича. До нас доходили звуки канонады, разрывы снарядов, стрельба автоматов. А затем все затихло. И через некоторое время зазвонили колокола церкви в деревне. Все поняли – это пришли наши войска. Вот она, долгожданная свобода! На радостях со слезами на глазах стали обнимать и целовать друг друга. Бегом бросились из леса в деревню, где я впервые увидел советских солдат. Колонна двигалась в сторону Пинска. Шли солдаты уставшие, все в пыли, с суровыми лицами. Я стоял со своими сестричками в сторонке и ждал, когда же узнает нас наш отец и подойдет к нам, возьмет на руки и обнимет. Хотя я не помнил его и не знал. Мне тогда было 5 лет. Со своими земляками-беженцами встретили мы День Победы 9 мая. В родную деревню Мошково возвратились только в 1946 году. Там, где стоял наш дом, все заросло бурьяном. Поселились мы в землянке, которую построила мамина сестра Матруна. Так начиналась наша послевоенная жизнь. Повестку о смерти отца мы получили в 1948 году, где сообщалось, что Лукутин Федос Лавренович значится умершим в германском плену 28 апреля 1948 года. Извещение я храню как единственную реликвию о моем отце. В. Лукутин, ×
Женщина на войне – это подвиг …В северо-восточной части Горецкого района, на самой границе с Россией, есть небольшая деревенька Городец. Там живет героиня нашего рассказа – Марфа Митрофановна Михеева (в девичестве Трубилина). Мы познакомились с ней, работая над историко-био-графическим проектом, посвященном 65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Марфа Митрофановна охотно поделилась с нами воспоминаниями. Весть о начале войны застала родителей и ее, тогда еще 13-летнюю девочку, в Горках, куда они приехали на рынок. Началась всеобщая мобилизация. 12 июля 1941 года немецкие войска вошли в Горки, а потом в течение нескольких дней оккупировали весь район. В самом Городце части врага не стояли, но периодически фашисты сюда наведывались... С приближением фронта в 1943 году начались бомбежки и обстрелы. Мирные жители искали убежища повсюду. Людям казалось, что этот ужас не закончится никогда. Наконец бомбежки утихли. Земля была устлана убитыми и ранеными. Картина ужасная для глаз... Марфа Митрофановна искала своих родных, с которыми потерялась во время бомбежек. К счастью, все были живы. Да и дом их уцелел, были выбиты только окна. Но не всем так повезло. 19 домов в деревне сгорели дотла. Людям пришлось копать землянки за деревней, в них жили почти до самой зимы. 2 октября 1943 года наши войска заняли рубеж Ляды-Ленино-Дрибин. И фронт стоял здесь 9 месяцев. На войне не только стреляют, бомбят, ходят в рукопашную, роют траншеи. Там еще стирают, варят кашу, пекут хлеб. Все население старалось оказывать посильную помощь нашим войскам. Марфа Митрофановна работала в госпитале при 352-й стрелковой дивизии. Она пилила дрова, доила коров, помогала готовить еду. Казалось бы, ничего особенного, но без таких, как она, простых тружеников, советским воинам было бы очень трудно. 25 июня наши войска наконец прорвали оборону немцев и продолжили наступательную операцию. Марфа Митрофановна осталась работать при госпитале. Женщина, девушка на войне – это уже подвиг. Надо было привыкать к вражеским авианалетам, к разрывам бомб и снарядов, к крови, которую видела она каждый день, к смерти – спутнице войны. С 352-й стрелковой дивизией городецкая девчушка Марфа дошла до Праги. И за этот неблизкий путь ее добросовестный труд ради Великой Победы был отмечен медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За освобождение Праги». После окончания войны только к 25 сентября 1945 года Марфа Митрофановна вернулась домой. Вышла замуж, родила пятерых детей, работала в сельском хозяйстве. В 1966 году перешла на работу в Ленинское сельпо, в магазин своей родной деревни. Трудилась до самой пенсии и еще 15 лет. На ниве сельской кооперации ее тоже отметили за добросовестность, трудолюбие. Она ветеран труда, победитель соцсоревнования, имеет медаль «За трудовую доблесть». Указом Президент Республики Беларусь М. М. Михеева награждена орденом Г. К. Жукова. И сейчас, невзирая на солидный возраст, Марфа Митрофановна, юная участница Великой Отечественной, молода душой. Любого может зарядить жизнерадостностью и оптимизмом… Яна Кабешева, Анастасия Асютина, Анастасия Залещенок, ×
Берегите старых людей Мой дед был свидетелем военных лет. В июле 1941 года в деревнях Любижского сельсовета объявились оккупанты. В лесу Могильный клин, недалеко от деревень Тимоховка и Душки, шли бои. Деду было 8 лет, его родители жили на окраине д. Тимоховка. Шел бой, и он отчетливо слышал разрывы снарядов, бомб. Немцы хозяйничали в Тимоховке, Душках, Овсянке. Все жили по законам фашистов. – Нам, детям, было все интересно, – говорил дед. – Я и мои братья были смуглыми и родители очень боялись, чтобы немцы не приняли нас за евреев. Однажды с братом Виктором мы тайком подошли к Тимоховской школе, где размещался полицейский участок. Нам хотелось узнать, много ли фашистов в деревне, какое у них оружие. Нас заметил фриц. Стал подзывать к себе. Потом зашел в школу и быстро вернулся назад. Но мы все поняли и спрятались под ступеньки школы. Немец что- то громко кричал. Потом мы поняли, что нас приняли за евреев. А это значило – расстрел. В лесу не прекращались выстрелы. Отец говорил, что это пробивается к своим Краснознаменная Пролетарская дивизия. Она отходила к Москве, но большая часть дивизии полегла на нашей земле, в Тимоховском лесу. А оставшиеся, сохранив знамя и название, вели партизанскую войну. Потом начались облавы по отправке жителей окрестных деревень в Германию. Но планы немцев были сорваны. Партизаны взорвали железную дорогу и всех беженцев высадили в Круглянском районе и расселили… В. Новиков, ×
Делал мальчишка мины, душа рвалась на фронт… Родился он в 1926 году в селе Терновое Острогожского района Воронежской области. В 1941 году, когда началась война, он, 15-летний паренек, учился в школе ФЗО, а вскоре ох как пригодились его навыки слесаря по металлу на Воронежском военном заводе! Тут делали снаряды к 152-мм пушкам-гаубицам и 82 и 120 мм противопехотные мины, так называемые осколочные, чтобы наверняка разили на нашей земле врага. Делал мальчишка мины, а душа рвалась на фронт. И вот однажды, в декабре 1942 шла разгрузка с железнодорожного состава этих самых 152-мм гаубиц перед отправкой на фронт. Подбегает Иван к командиру роты капитану Иванову и просит его взять на фронт. – А что? – сказал Иванов, – будешь у нас вместо сына полка. Так началась фронтовая жизнь подростка Вани Павлова. В составе 142-й артиллерийской бригады из резерва Главного командования сражался при 27-й Армии а затем поддерживали 69-ю. Освобождал свой родной поселок Острогожск и город первого салюта Белгород. За Харьков получил первую награду – Благодарность Верховного Главнокомандующего Сталина. Воевал на Воронежском фронте, І Украинском под командованием генерала Ватутина, участвовал в Корсунь-Шевченковской операции под командованием маршала Конева. Сражался на ІІ Украинском под командованием маршала Малиновского, воевал на ІІІ Украинском под командованием маршала Толбухина во время Яссо-Кишиневской операции. Словом всюду, на всех фронтах и боевых сражениях безусый рядовой, а затем ефрейтор Павлов был незаменимым орудийным номером – установщиком снарядов. Его зачислили в полк вместо сына полка, а прошел он войну боевым артиллеристом на передовой. И под пулями не сгибался, потому что никогда не думал о смерти. Может потому и выжил, уцелел. На Курской дуге лишь один раз за всю войну «зацепило» Ваню взрывной волной. Да так оглушило и контузило, что кровь пошла ручьем, и он лишь на третьи сутки пришел в сознание. А потом еще три дня возили раненого на орудии, пока не сдали в санчасть. Полтора месяца отвалялся на больничной койке, и снова – в родную часть. Много на памяти ветерана Ивана Стефановича боевых эпизодов. Но боя на озере Балатон в Венгрии не забыть никогда. А закончил войну в мае 45-го в Австрии уже будучи армейским разведчиком артиллерийских и минометных частей врага. С наблюдательного пункта через стереотрубу вел наблюдение за вражескими позициями и докладывал обстановку своему командованию. И по его данным била по врагу наша артиллерия. После войны служил в Винницкой области, окончил школу сержантов в г. Черновцы. И его однокашник из белорусской деревни Ректа Горецкого района Вася Шмурьев определил всю его дальнейшую судьбу. Показал однажды фотокарточку одной девушки. Вот так и оказался в Горках. Устроился рабочим на кирпичный завод в 50-х годах и влюбился в швею Зою, которая ответила бравому молодому фронтовику взаимностью. А затем учился Иван Стефанович в Могилевской школе пожарных, был по возвращении начальником караула вплоть до 1958 года. Затем поднимал целинные земли в качестве комбайнера, но вскоре опять вернулся: детям не подошел «целинный» казахстанский климат. И на всю оставшуюся жизнь сроднился с Горками. Работал в котельных консервного, а затем хлебозавода. Вот вкратце и все, что поведал о себе кавалер орденов Отечественной войны II степени и Красной Звезды, удостоенный медалей «За боевые заслуги» и «За победу над Германией» Иван Стефанович Павлов… П. Детликович, ×
Встречи с ветераном Неизменна традиция — приглашать в школы ветеранов Великой Отечественной на встречи с молодым поколением нашего города. Вот и недавно почетным гостем учащихся 1 «А» и 2 «А» классов СШ NN 1 и 4 стал житель города Горки, ветеран Великой Отечественной войны, Иван Стефанович Павлов. Организовали встречи учителя Н. М. Горолевич и С. И. Ильенко. Немало испытаний выпало на долю военного поколения советских людей, но они с честью выдержали их. Солдаты Отчизны разгромили врага в его собственном логове, а затем вместе со всем народом отстраивали разрушенные и сожженные города и деревни, восстанавливали народное хозяйство. Так начал свой рассказ ветеран. Он вспоминал, как 16-летним подростком попросился на фронт с весны 1942 года, был сыном полка, воевал артиллеристом в действующей армии. Хорошо помнит боевые действия на Воронежском фронте. Был участником Курской битвы. Запомнилось ветерану Прохоровское поле, где потерял в бою многих друзей-однополчан. Прошел фронтовыми дорогами всю Европу, освобождал Польшу Чехословакию, Венгрию, Германию. Победу встретил на Эльбе. С теплотой и уважением отнеслись учащиеся и учителя этих школ к ветерану, подаренные цветы растрогали его. Иван Стефанович высказал ребятам слова напутствия. Благодаря нашим славным Ветеранам мы живем под мирным небом, каждое утро радуемся солнцу. В. Белоусова, ×
Черные дни оккупации Родился я в небольшой деревушке Новые Наборки, которая расположена на стыке Кличевского и Березинского районов, в крестьянской семье. В деревне было 60 дворов. В нашей семье – четверо детей: два брата и две сестры. Жили небогато, основной кормилицей была корова. Помню, в деревне работали семилетняя школа и сад-ясли. Буквально накануне войны сельский Совет принял решение открыть магазин. Уже подготовили подходящее здание, планировался завоз товаров, но пришла страшная весть о начале войны. В первые дни люди не знали, что делать. Вскоре сельская власть известила: всем военнообязанным мужчинам явиться на призывной пункт при военкомате Кличева, который находился в 25 километрах от деревни. Мужчины дошли лишь до железнодорожной станции Несета, где узнали, что райцентр уже занят немцами. Они вынуждены были повернуть назад, фронт ушел далеко на восток. Позже многие из них ушли в партизаны и лишь летом 1944 года были мобилизованы в действующую армию. Отца на фронт не призвали, так как он был признан непригодным к строевой службе по причине тяжелого ранения, полученного в 1915 году во время первой мировой войны. Зато три его брата воевали, и самый младший, Максим, погиб в первые месяцы войны. Мы остались в своей деревне. Как известно, наша лесная зона во время войны была партизанским краем. Население помогало патриотам в снабжении продуктами, одеждой, ведь там были и наши мужчины. Немецкие гарнизоны находились в 30-40 километрах от деревни. Угнетала постоянная тревога: как бы не нагрянули каратели. Первый раз немцы появились внезапно. В нашей деревне разместился артиллерийский дивизион (несколько легких пушек на конной тяге) с походной кухней и личным составом в 30-40 человек. В первые месяцы войны гитлеровцы были в хорошем настроении от успехов на фронте. А второй яркий эпизод войны, который хорошо сохранился в памяти, из мая 1943 года. В тот день в деревне находился небольшой партизанский отряд, около 50 человек. С двух сторон деревни партизаны выставили посты на случай внезапного появления немцев. В середине дня постовые в бинокль заметили приближающуюся колонну фашистов и полицаев. По тревоге отряд занял круговую оборону. Немцы открыли по деревне автоматно-пулеметно-минометный огонь. Перестрелка с обеих сторон продолжалась часа три. Под напором противника, силы которого превосходили в численности и вооружении партизаны оставили деревню и скрылись в ближайшем лесу. С ними ушли все молодые мужчины и ребята 15-17-летнего возраста. Остались лишь женщины, дети и старики. Фашисты и полицаи ворвались в деревню и стали бесчинствовать: поджигали дома, избивали шомполами женщин. На глазах у всех были расстреляны сорокалетний мужчина и 16-летний парень, которые по какой-то причине не ушли из деревни. От пуль во время обстрела погибли женщина и 9-летний мальчик. Наша соседка получила тяжелое ранение в плечо. Во время боя мы с матерью прятались в подвале нашего дома до тех пор, пока не увидели, что горят соседние. Вскоре загорелся и наш. Назавтра мы всей семьей расчистили от углей площадку на пепелище дома. В подвал случайно попал тлеющий уголек, который привел к пожару и уничтожил оставшийся там нехитрый скарб. Мы лишились всего. Некоторое время жили у соседей, у которых сохранился дом... Летом 1944 года в деревню пришли наши. Свобода! Радость была невероятная. Мужчины призывного возраста были мобилизованы в Красную Армию, отправились на запад бить фашистов. Победа досталась нелегкой ценой. Не все односельчане вернулись с фронта. В сентябре 44-го года я в 9-летнем возрасте пошел в школу. Не хватало тетрадей, учебников, но учились с больше желанием. Десять классов закончил в 1954 году и в этом же году поступил в Минский пединститут иностранных языков, а дальше уже была взрослая жизнь. Считаю, что прожил ее интересно. Нынешнему и будущим поколениям желаю мирного неба и счастья. Р. S. Владимиру Антоновичу Потупчику в январе текущего года исполнился 81 год. Большая часть его жизни связана с Горками. С 1963 года до выхода на пенсию в конце 90-х, Владимир Антонович работал на кафедре немецкого языка преподавателем, старшим преподавателем, заведующим кафедрой Белорусской сельхозакадемии. Позже некоторое время – учителем в системе образования Горецкого района. Записал Андрей Пугач, ×
Война глазами 7-летнего парнишки Василий Фадеевич Прищеп родился в России. В Горках живет с 1973 года. Его мальчишескую правду о войне, которую он принес в редакцию на исписанных листках, мы просто не могли не опубликовать (приводим отрывки). Предлагаем воспоминания вниманию читателей. В августе 1941-го года мне исполнилось 7 лет. Жители моего родного села Увелье Красногорского района Брянской области к приходу немцев готовились: копали в огородах землянки, накрывали их сверху бревнами, присыпали землей. В день, когда стало понятно, что нагрянут немцы, все спрятались в укрытия. Поздним вечером послышались первые пулеметные очереди. Уже скоро в трехстах метрах от схрона загорелся дом. Дым от него повалил в нашу сторону. Я испугался, что сейчас задохнусь и стал умолять мать убежать оттуда. Несмотря на сильную перестрелку, она вынуждена была вместе со мной направиться вниз к реке. *** Директор десятилетней школы Никифор Захарович встретил гитлеровцев хлебом-солью. Он знал немецкий и легко получил у фашистов работу. В помощниках у него ходил еще один предатель, который руководил процессом отправки молодежи в Германию. Когда в район приехала комиссия по отбору здоровых девушек и парней, их согнали к одному зданию, на котором висел список тех, кого должны были забрать. Среди них был и мой брат Иван. Чтобы спасти Ваню, отец научил его следующему: покурить табака с небольшим количеством перца. Во время прохождения комиссии у Ивана бешено колотилось сердце, и врачи решили, что не годен. Предатель Никифор Захарович не поверил в это и заставил брата пройти комиссию во втором потоке. Но и в этот раз его спасла хитрость папы. Много молодежи из нашего села угнали в Германию. Среди них была и моя двоюродная сестра Мария Ткаченко, которая вернулась домой в 1945 году. *** Наше село находилось между двух огней: с одной стороны – партизаны, с другой – полицейский стан. Последний был хорошо оснащен: гранаты, автоматы, пулеметы. А вот у партизан поначалу были лишь охотничьи ружья. Зато у них имелось другое преимущество – лес. Немцы ежедневно обязывали народ сдавать молоко на нужды их армии. Мой отец Фадей Ануфриевич наладил отношения с партизанами. С его подачи те по ночам начали взламывать помещения, где стояли бидоны для молока. Они рубили их топором, «дырявили». Из-за отсутствия тары население на пару дней освобождалось от молочного «налога». Я тоже помогал отцу: разносил по селу агитационные брошюры, газеты. Когда отец ушел к партизанам в лес, нам с мамой пришлось прятаться у соседей всякий раз, как только немцы появлялись на нашей улице. Я высматривал их с крыши дома, часами сидя возле печной трубы. Рядом со старым домом предателя Никифора постепенно начал расти новенький. Строили его пленные солдаты. Было их человек восемь. Возвели они не только дом, но и баню с просторными сараями.Работников ежедневно привозили и увозили под конвоем. С течением времени охрана, видимо, потеряла бдительность, и пленным удалось сбежать к партизанам. Они решали отомстить и совершили налет на дом Никифора. «Мы строили эти хоромы, мы их и спалим». Постройки воспламенились и сгорели очень быстро. *** Партизаны подбадривали народ, при каждой удобной возможности сообщали, что близится час, когда наша земля будет очищена от фашистов. В день освобождения села жителям приказали на время перебраться в более спокойную местность. Немцы уходили второпях, но сожгли мельницы, школу, колхозную баню, взорвали мост через реку. К одному деду по прозвищу Думанец на мотоцикле залетел немец. Стал бить кур и быстро складывать их в коляску. Думанец не растерялся и заколол фашиста вилами. Труп оттащил в огород, прикрыл сверху снопами, а мотоцикл откатил и спрятал в кустах. Позже отдал его нашим солдатам и получил за это вознаграждение. *** В знак благодарности люди выносили освободителям из домов все, что у них было: молоко, яйца, хлеб. Хотя те чаще спрашивали о табаке. В колонне под прицелом ружей вели полицаев, в том числе и из нашего села. Один мужик из толпы спросил у солдата: «Куда вы ведете эту нечисть? Их расстрелять надо». На что тот ответил: «Папаша, их будет судить Полевой Суд, домой они уже не вернутся». Так и случилось. Только вот Никифор и полицай, занимавшийся отправкой молодежи в Германию, сбежали. В 50-е годы полицай получил свои 25 лет тюрьмы. Свидетелями на суде выступали вернувшиеся из Германии люди. А вот Никифор так и остался безнаказанным. *** В послевоенные годы жизнь была нелегкая. Отца ранили на фронте. Домой он вернулся тяжело контуженным. Очень много мужчин из нашего села погибли. Вся работа легла на плечи женщин и подростков. Огороды пахали на себе. К плугу привязывали две длинные палки: восемь человек тянули плуг, а один управлял им. Ели все, что находили на земле: цветы клевера, семена конского щавля, лебеду, крапиву. Весной собирали на поле гнилую картошку, перетирали, отстаивали и делали из них оладьи. Василий Прищеп, ×
Кто вы, дети войны? Я хочу рассказать о том, как коснулась Великая Отечественная война моих родственников и моей бабушки – Прокоповой Аллы Михайловны. …Спрашивая о войне, я заметила нежелание бабушки вспоминать о тех страшных годах. Я видела, как тяжело и больно даются ей воспоминания. Она как бы заново переживала то время. Ведь много родных и близких людей ушло из жизни на ее глазах, вся жизнь изменилась, перевернулась... Моей бабушке было пять с половиной лет, когда началась война. Она вспоминает, что в тот день играла на улице с детьми. Неожиданно над деревней начали летать самолеты. Вечером 12 июля 1941 г. гитлеровцы ворвались в Горки. Фашисты сразу установили режим кровавого террора и насилия над советскими гражданами. Еще недавно шумные и жизнерадостные студенческие Горки превратились в город смерти и страданий. Символом нового порядка стали четыре виселицы, сооруженные в сквере у бывшего административного корпуса. Оккупанты сгоняли сюда горожан, чтобы запугать их страшным зрелищем казни советских патриотов. На окраине города в саду учебно-опытного хозяйства были вырыты ямы, ставшие братскими могилами советских граждан. Гитлеровцы совершили чудовищное злодеяние – расстреляли 150 детей из детского дома. Вскоре в деревне Кузовино, где жила моя бабушка, появились немецкие мотоциклы. Всех жителей этой деревни нацисты погнали в деревню Медведково. Там проходила линия фронта. Женщин и детей заставляли рыть окопы, траншеи. Люди убегали и прятались в лесу, который окружал деревню. Выкапывали блиндажи, делали настилы из деревьев, укрывали их еловыми лапками. Первое время были и кони, и коровы. Так и пытались выжить. Немцы устраивали облавы (шли кольцом с автоматами на три метра друг от друга и стреляли очередями). Во время одной из таких облав моя бабушка была ранена в щеку Ночью, тайком, по 2-3 человека, чтобы немцы не заметили, перебрались в деревню Сахаровка. В Сахаровке стали жить с родственницей – тетей Татьяной. В хате жило около 20 человек. В деревне у немцев работал русский переводчик. Он прошел по хатам и предупредил, что завтра будут выгонять всех из деревни. Всю ночь топили печь, пекли хлеб, чтобы первое время было что поесть. Уже с утра всех погнали в Шкловский район. Приходилось голодать. Ходили по хатам просить, кто что даст. Но еды все равно не хватало. Бабушка хорошо помнит, как однажды шла в немецкую сапожную попросить еды. Один немец встал и так сильно ударил ее сапогом, что она вылетела за двери. Больше туда не ходила, боялась. Ее мама научилась валять валенки, обменивала их ни хлеб и картошку. Война забирала все силы. Мечты были лишь о том, как бы поесть досыта, выспаться да чтобы руки не болели от тяжелого труда. Порою падали от голода и усталости, но поднимались и продолжали работать. После освобождения Горецкого района от фашистов вернулись в родную деревню. От нее осталось несколько хат, а все остальное было сожжено. Бабушкина хата уцелела, а другие семьи копали себе на первое время землянки. Бабушка рассказывала, что очень хотелось есть. Они собирали щавель, весной выходили на картофельные поля собирать мерзлые картофелины. Прабабушка пекла хлеб, где кроме муки можно было найти все, что угодно, чаще всего лебеду. Но и такого хлеба не хватало. А. В. Прокопова, ×
Нам нельга забываць мінулае – Мне было дзевяць год. Гэта быў жудасны час. Калі пачалася вайна, мая сястра вучылася ў Смаленску ў педінстытуце. I мама паехала за ёй. А яна з сяброўкай ужо адправілася ў Горкі пехатою. Паверце, гэта нават цяжка ўспамінаць. 12 ліпеня мы вымушаны былі пакінуць Горкі. Пайшлі на Кацялева, потым далей. I так ішлі каля трох месяцаў. Усяго давялося пабачыць: і смерці, і жорсткія баі, і бамбёжкі, і людское гора. Памятаю, як крычалі дзеці. Смерць пагражала на кожным кроку. Гэта страшна. Не дай Бог перажыць каму такое. У 45-м годзе вярнуліся ў Горкі з Тамбоўскай вобласці. I нават не знайшлі месца, дзе стаяў наш дом. Вайна забрала і пяцёра братоў мамы – з семярых вярнулася толькі двое. А. Раскіна, ×
Воспоминания Когда началась ВОВ мне было 13 лет. ...22 июня 1941 года. Воскресенье. В этот день в красивейшем месте Михайловского леса должна была состояться маевка. На небольшой поляне с названием «домик». Когда-то там и в самом деле стоял дом лесников. Со временем его не стало, а название сохранилось. На маевку всегда собиралось очень много народа со всех деревень Маслаковского сельсовета, а их было двадцать. Торговали ларьки, должна была выступать школьная самодеятельность. Но вот на импровизированную сцену, трибуну (кузов полуторки с открытыми бортами) поднялся председатель Маслаковского сельсовета Никита Бурский и сказал, что Германия нарушила договор о ненападении и без объявления войны напала на Советский Союз... Возник стихийный митинг. Выступали очень многие. Запомнилось выступление военного моряка. Поднявшись на «трибуну«, он сказал: «Мы, моряки Балтийского флота, сумеем дать достойный отпор зарвавшемуся фашизму». В тот же день в Горецкий райвоенкомат уехали офицеры-запасники: Фома Ананьевич Золотов, Петр Никитович Костюшкин, врач Маслаковской больницы Иван Викентьевич Климкович и др. Ушли и не вернулись… На следующий день была объявлена мобилизация приписников. Спустя несколько дней на колхозном собрании было решено отправить девчат и ребят непризывного возраста за Днепр в Шкловский район на строительство оборонительных рубежей. Прошла и вторая мобилизация вплоть до 50-летнего. В колхозе остались женщины, старики и дети. Наступила сенокосная пора. Мы подростки 12-14 лет, бороновали и окучивали картошку, свозили сено на лошадях. Немцы почти каждую ночь бомбили Оршу. По небу в ночное время рыскали прожекторы. Зрелище настораживающее и страшное. В то время мы получали кроме «Пионерской правды» и газету «Ленінскі шлях», которая выходила на белорусском языке. «Районка»писала об успехах Красной Армии в борьбе в немецко-фашистскими захватчиками. Я читал об этом старику соседу, уроженцу с берегов Волги. Тот говорил: «Вот как наши их лупят». В воздухе были воздушные бои, и нам очень хотелось увидеть сбитого немца. Но пока было все наоборот. Горели и падали наши самолеты. Однажды в полдень над деревней разгорелся воздушный бой. С земли не было видно опознавательных знаков. Один из самолетов задымил и начал падать в направлении деревни Хоминичи. Летчика, выбросившегося с парашютом, относило туда же. Мы побежали к сельсовету, который в то время находился на территории нынешних мастерских колхоза. Там уже стояла автомашина с Яковлевичского военно-полевого аэродрома, чтобы подобрать нашего летчика. А он стоял обгоревший и грозил в небо кулаком немцу, который, словно издеваясь, делал круг над нашим сбитым самолетом. «Погоди, гад, мы еще повоюем!». Был всплеск радости и даже гордости. Стоял ясный погожий день. Ярко светило солнце. На улице было очень много народа: женщин, стариков, и конечно же, детворы. Над деревней на небольшой высоте курсом на восток летел советский одномоторный самолет со звездами на крыльях. Из-за леса вынырнул немец с крестами и свастикой на хвосту, заходя нашему в правый бок. Сблизившись, раздалась пулеметная или пушечная очередь. На уровне кабины нашего пилота были видны яркие почти белые вспышки. Нельзя было понять, что произошло. Кто-то сказал: «Видал, как получил гад по зубам». Все подумали, что стрелял наш самолет. Но, видимо, это был бронированный штурмовик «Ильюшин», и удар пришелся по кабине летчика. Была гордость, потому что наш самолет, как казалось с земли, летел, как ни в чем не бывало, а немец ушел за лес и больше не возвращался. Тем не менее гордиться было чем. Спустя несколько дней между Маслаками и поселком Дубовый Угол упал и сгорел советский бомбардировщик СБ-3. Двое членов экипажа приземлились на поле примерно в километре от Маслаков. Их обнаружили подростки Иван Кабишев, Владимир Астренков и Иван Астренков. Летчики были ранены и обгоревшие. Самостоятельно идти не могли. Пришлось хлопцам сбегать на бригадный двор колхоза, запречь коня и доставить их в деревню. Первую помощь летчикам оказала молодая девушка Екатерина Трофимовна Титова, имевшая к тому времени специальность медсестры. Война забирала все силы. Мечты были лишь о том, как бы поесть досыта, выспаться да чтобы руки не болели от тяжелого труда. Порою падали от голода и усталости, но поднимались и продолжали работать. Для обработки ран пришлось обратиться в Маслаковскую больницу, где остались работать престарелый фельдшер Сергей Леонтьевич Жуков и санитарка. Больница располагалась в бывшем доме священника. В ней было около двух десятков раненых красноармейцев, доставленных с фронта, который находился уже в Шкловском районе. Мест, чтобы положить раненых пилотов, не было. Не было и медикаментов. Сергей Леонтьевич обработал раны, а долечивать летчиков взялась Катя. На рассвете 12 июля 1941 года в деревню вошли немцы. Двигалась темная туча в грязно-зеленых мундирах. Вдоль забора школьного парка по всему периметру в несколько рядов стояли прислоненные друг к другу велосипеды. Около школы ветерок гонял выброшенные книги, бумаги. А солдаты пошли по хатам мародерничать. Кричали: «Матка, яйка». «Матка, млеко!». Ездовые искали на подворьях корм для короткохвостых тяжеловозов. Встретившегося мужчину заставляли снимать головной убор. Если короткая стрижка, значит, красноармеец. Если темноволосый, значит, еврей. Женщины с мольбой и плачем отстаивали попавших в беду, прятали их, как могли. Спрятала своих подопечных и Катя Титова. Да и не только спрятала, но и лечила, кормила примерно в течение месяца, пока те не поправились и смогли идти. Однажды они сказали, что пора пробиваться к своим, надо же отомстить врагу за сгоревшего товарища. Обязательно победить, и встретиться после войны. В сопровождении тех же подростков Иванов и Володин ушли на восток через деревни Селец, Орловщину. После освобождения Катя уехала в Могилев, вышла замуж, и всю жизнь проработала в Могилевском аэропорту. Может быть потому, что в молодости пришлось лечить летчиков. Один из пилотов присылал письма своей спасительнице. Дожил до Победы. В. Рыльков ×
Они не были героями… Начало лихолетья На Запад строем летели наши самолеты. Обратно возвращались одиночки, некоторые самолеты горели и падали на территории района. Отступали части Красной Армии. Сельские медпункты были переполнены ранеными бойцами. Лечить некому и нечем. Тяжелораненые умирали. Местные женщины отдавали свои домотканые скатерти, чтобы укрыть тела бойцов. Ведь простыней в то время у сельских жителей не было. В Маслаках раненые красноармейцы разошлись по хатам. Поправившись, некоторые уходили, пытаясь пробиться к своим, но фронт уже был далеко. Другие искали партизан. Жила в нашей деревне Акулина Шапыркина, местные называли ее Кулинка. Несмотря на небольшой рост, любая работа была ей под силу: могла пахать, сеять, косить, даже сапожничать. Присватался к ней раненый красноармеец Валентин. И вскоре в деревне стал Валентином Кулинкиным. Летом 1942 года он ушел в партизаны, а вместе с ним и Акулина. А весной 1943-го Валентин попал в засаду у деревни Тудоровка и погиб. Акулина, у которой в отряде родился сын, не нашла лучшего выхода, как вернуться к сестре в отчий дом. И только переночевать успела, как наутро ее схватили полицаи и отправили в Горки. Там ее вместе с младенцем расстреляли. Очень сожалею, что не пришлось пообщаться после войны, хотя бы письменно, с Сергеем Мамаевым. После лечения в Маслаковской больнице он некоторое время жил в нашей семье, пока мать не свалил тиф. В результате ранения рука у него была частично парализована. По национальности Сергей башкир, был сержантом гаубичной артиллерии. Мы с ним подружились. Летом 1942 года он тоже ушел в партизаны и вместе с отрядом оказался в Гомельской области. После войны написал письмо из Уфы с просьбой выслать ему справку о том, что в 1941 году он лечился в Маслаковской больнице у фельшера С.Л. Жукова. Справку ему отослали, а вот уфимского адреса, пока я служил в армии, ни у кого не сохранилось. Партизанская разведка О событиях на фронте и действиях партизан жители узнавали в основном один от другого. Если кому-то попадались в руки листовка, сброшенная с самолета, то она передавалась из рук в руки. В те далекие времена в деревне еду готовили в печи, в глиняных горшках. Примерно два раза в год гончары со Шкловского района, которые занимались изготовлением горшков, ездили по деревням и продавали свою продукцию. Обычно приезжали в Маслаки с южной стороны, от деревни Селец. А в начале лета 1942 года подвода с горшками появилась с севера. И продавали их не пожилые мужики, а молодая пара. Вечерело. Доехав до середины деревни, попросились у моей матери переночевать. Заехали во двор, дали коням травы. Мать пригласила их поужинать. В хате было жарко, и «гончар» сказал, что ляжет спать на полу со мной. Устроившись на домотканом матрасе, стал расспрашивать меня, бывают ли в деревне партизаны, как ведут себя немцы, сколько их в гарнизоне, верят ли люди в их победу? А потом стал рассказывать, как шкловские партизаны громят фашистов, и самое главное, как Красная Армия одержала победу под Москвой, разгромив отборные немецкие части. Сказал, что у них есть радиоприемник, и они слушают радиопередачи из Москвы. У кого это у них, можно было только догадываться. Слушать его было так интересно, что даже спать не хотелось. Но все же под утро сон одолел меня. Когда мать разбудила, «гончаров» уже и след простыл. Рано на зорьке укатили в неизвестном направлении. Утром я, конечно, в первую очередь поделился услышанным со своими друзьями. А после и взрослые стали спрашивать, что нового рассказал «гончар». Изверг В сентябре 1943 года немцы совместно с полицаями согнали все мужское население деревни в бывшее здание школы, которую превратили в полицейский участок. Примерно около половины всех людей посадили в машины и отправили под Ленино строить линию обороны. Остальных, распределив по группам, заставили копать траншеи с восточной стороны Маслаков – от д. Бася до Хоминич. Руководил работами немец Паулик. Посреди деревни повесили кусок рельса, и в 8 утра ударом по нему железным шкворнем возвещалось о начале работы. Трудились без обеда. Норма была, как мужику, так и подростку, шесть Пауликовых шагов. А они у него были широкие. В нашей группе было шесть человек: двое моих одноклассников, с которыми до начала войны успели окончить 5 классов Маслаковской школы. Это Гриша Светлов, Ваня Баранов и я. Еще с нами работали трое мужиков, в том числе Никифор Гусин, сын еврея, у которого мать была белоруска, и в молодости он принял православие. Видимо, этому Паулику кто-то сказал про Никифора. Однажды, когда группа шла на работу, фашист уже ожидал нас верхом на коне. Никифор шел последним, и когда поравнялся с немцем, тот гаркнул: «Юд, лапятка эсуда!», что означало: «Еврей, брось лопату!». Сам соскочил с коня, свалил Никифора с ног и стал его избивать кованым ботинком, пока у бедняги кровь не шлынула изо рта, носа и ушей. Потом вскочил в седло и громко крикнул: «Юд, вставай, арбайтен!» и поехал дальше Спустя два дня последним в группе шел я. Едва только поравнялся с Пауликом, как услышал: «Маленьки пан, лапятка эсуда!». В голове мелькнула пугающая мысль: будет бить. И если так, как Никифора, то от меня, хрупкого мальчишки в лаптях и одежде из домотканого рядна, ничего не останется… Но пронесло. Фриц жестом показал, чтобы я зауздал коня, на котором он сидел, и поехал дальше. Когда часть, в которой служил Паулик, передислоцировалась под Витебск, он захватил с собой некоторых пацанов, не успевших спрятаться. В том числе и Никифора. По дороге в сторону д. Шепелевка, не доезжая березовой рощи, приказал Никифору слезть с воза, затем добавил: «Юд, ком нах хаузе!». Не успел тот сделать и пяти шагов, как получил пулю в затылок. Самому Паулику судьбу предсказала деревенская женщина-калека. Когда она пыталась перевести старого коня через траншею, фашист прицелился в лошадь и выстрелил. Женщина плакала, тянула коня за повод, еще думала поднять его. Тогда и выпалила извергу в сердцах: «Не радуйся чужой беде – своя на гряде!». Так оно и вышло. Как рассказали позже пацаны, которых Паулик угнал с собой, по дороге фашиста настигла пуля красноармейца-снайпера. И отправила его на тот свет, наверное, обязательно в пекло. Освобождение Близился час расплаты. 26 июня 1944 года части Красной Армии освободили наш район. Избавив народ от унизительных и оскорбительных команд: «Лос! Лос! Шнель, русишеншвайн! Давай, давай, арбайтен!». Теперь люди делали все для фронта, приближая Победу. Владимир Рыльков ×
«Война забрала наше детство» Вот уже 70 лет, как закончилась война, но до сих пор напоминание о ней болью отзывается в сердцах тех, кто стал её свидетелем. Василию Илларионовичу Савицкому из д. Логовино Ленинского сельсовета не было 10 лет, когда немцы пришли в деревню. С этого момента его детство закончилось. Чужие люди, разговор, стрельба по поросятам, курам... Немцы под окном их дома устроили кухню и целыми днями жарили, варили, пили, ели, гоготали по-своему. Как-то один немец, увидев мальчика, пальцем поманил к себе. Он подошел. Фриц вынул конфету, протянул, мол, бери, ешь. А сам смеется. Конечно, конфета в то время – соблазн большой, Василий и протянул руку. Но стоявший позади немец с такой силой ударил мальчика по спине прикладом, что от невероятной боли он не смог сдержать слез. Василий Илларионович вспоминает, что немцы в деревню наведывались часто. И каждый приход начинался с грабежа: из сараев выгоняли скот, стреляли, грузили в машины награбленное и уезжали. В один из таких набегов мать приказала Василию выгнать из сарая последнего поросенка (остальной скот немцы уже забрали) и спрятать его в овраге. Василий и другие соседские мальчишки погнали свиней через рожь в овраг. Но буквально метров через 10 раздалась автоматная очередь. Пули пролетели прямо над головой. – Такого ужаса я еще не испытывал, – говорит Василий Илларионович. – Ноги подкосились. Не помню, как оказался в гумне, закопался в солому и сидел там, дрожа от страха, до утра. Не брезговали фашисты ничем: забирали все, что попадалось под руки. Помнит, когда забирали корову, мать бросилась к немцу, вцепилась в него, пробовала оттянуть от буренки, но фашист оттолкнул ее силой, и мать упала. Дети подбежали к ней и тоже заплакали, от страха, обиды, беспомощности. Издевались над людьми не только немцы, но и полицейские. Тоже ходили по домам, забирали, что еще осталось после фашистов. Подростков заставляли работать. Был такой случай. – Полицейские, боясь прихода наших, приказали подросткам каждую ночь дежурить, – рассказывает Василий Илларионович. – Сделали табличку «Ночной сторож», вешали дежурному, и тот должен был ходить по деревне. На одном таком дежурстве Василий увидел человек 15 с автоматами. Думал – немцы, оказалось – свои. Им нужно было незаметно пройти на Панковщину. Мальчик объяснил, как лучше туда добраться. Солдаты ушли, приказав никому об этом не говорить. Вспомнил Василий Илларионович и такой эпизод. Погнали как-то лошадей в ночное. Среди подростков были ребята и повзрослее. Они вырезали себе колья, прикрепили к ним веревки (вроде автоматов), перекинули через плечо. А всех, кто моложе, построили и повели по деревне, как пленных. В это время в одной избе была вечеринка. Ошивались там и поли¬цейские. Один из них, выйдя на крыльцо покурить, увидел толпу людей. В темноте принял колья за винтовки и как закричит: «Партизаны!» Из избы все врассыпную. – Досталось нам за это на следующее утро плетками, – продолжает Василий Илларионович. А потом долго молчит, только заметно трясутся уголки его губ, да руки нервно теребят рубашку. Видно, как тяжело ему еще раз проживать эти страшные минуты жизни. Василий Илларионович рассказывает о том, как жилось его семье в беженцах, как голодали, спали в сарае, мерзли на холоде. Их и соседние деревни перед отступлением немцы сожгли. Помнит, нагрянули они злые, как собаки, стали всех из домов выгонять, а под угол каждой избы ставили бутылку с горючей смесью. Всех жителей погнали одной толпой. Василию с семьей и другим жителям в суматохе удалось убежать и спрятаться в овраге. – Сидим, – вспоминает Василий Илларионович, – дрожим от страха, пугаемся каждого шороха. Видим, как враз загорелись деревни. До темноты просидели в овраге. Холодно, есть хочется. Решили пойти в д. Туман, но в метрах 50-ти от деревни остановились, прислушались: немцы! Мы назад в овраг. – Так остались мы без дома, – Василий Илларионович тяжело вздыхает. Потом добавляет: – хватило горя. Голодали, мерзли, но вынесли все, потому что верили, что недолго врагу на нашей земле хозяйничать. Самая большая радость была, когда освободили от фашистов Горецкий район, и семья вернулась домой. Все, что увидели, не описать: кирпичи, бурьян, пепелища; земля в траншеях, землянки вокруг по всей обороне. На своем дворе вырыли землянку и жили там. – Ох, и тяжело приходилось! – рассказывает он дальше. – Работали много: лопатами закапывали рвы, засыпали траншеи. Огороды на себе пахали. Все трудились: и старики, и взрослые, и дети. Все, кто мог, потому что надо было выжить, выстоять, не умереть. За 10 километров ходили за картошкой для посева в колхозе. И что самое удивительное: ни одной картошки не украли, хотя голодали, собирали ее мерзлую и ели. А хлеб был – из мякины. Мальчику довелось работать и за себя, и за отца, который погиб 7 апреля 1945 года под Кенигсбергом. В 1952 году Василий Илларионович пошел служить в армию, попал на 4 года на север, в Мурманск. После демобилизации вернулся в деревню, завел семью, построил дом. Спасибо всем людям, – говорит Василий Илларионович. – За то, что хоть и жилось трудно, и горя вынесли столько, а остались люди добрыми душой и сердцем. Дом помогали строить всей деревней. Так прошла моя жизнь, – заключает рассказчик. – Правильно, неправильно ли, не знаю. Но никогда не кривил душой, жил и работал по совести, не ссылался на трудности. Детей вырастил, радуюсь внукам и правнукам. Жить сейчас хорошо… Татьяна Новикова, ×
Подранок войны Антон Седлухо: «Родом из огненного детства…» «Мы смерти смотрели в лицо…» Родился он 3 марта 1933 года в деревне Крымены Паричского района (ныне Светлогорского) Гомельской области в крестьянской семье. Мать, Антонина Антоновна, 1900 года рождения, принадлежала к старинному польскому роду Замбржицких. Отец, Петр Илларионович, с 1903 года, был потомственным крестьянином-белорусом. Моя мать из многодетной семьи: семеро братьев, а она была восьмой. самой младшей. Жили зажиточно, все трудились от темна до темна, большие наделы земли обрабатывали сами, без наемных работников. А моя будущая мать, их сестра, была хозяйкой по дому, готовила братьям пищу обстирывала их. Советская власть раскулачила деда Антона и сослала на строительство ББК (Беломорско-Балтийского канала). Там он и схоронен. А мои родные дяди по материнской линии разбрелись по всей России. Дядю Владимира расстреляли в Питере. Из четырех дядей, ушедших на войну в 41-м, остался в живых один, Виктор Антонович. Был он водителем «ЗИСа» и доставлял по льду Ладоги продовольствие блокадному Ленинграду. Под непрерывными бомбежками вражеской авиации, сопровождавшей колонну машин. На его глазах многие из них шли под лед, другие же объезжая воронки, двигались дальше. Дяде удалось выжить. После войны жил он в Подмосковье, его жена, тетя Валя, работала на заводе грампластинок. У отца был родной брат Леша Седлухо. Юморист, балагур, за что и поплатился. В поселке Паричи в период преобразования коммун в колхозы он возьми да ляпни: «Распались коммуны, распадутся и колхозы». Наутро увез его черный воронок. Дали дяде 10 лет лагерей, где отбыл от звонка до звонка. Там не пропал, как крестьянин в сотом поколении, открыл опытное хозяйство и заведовал им. В 1947 году реабилитировали. По возвращении домой, за застольем сказал тост: «За Сталина! Спасибо ему». «Ты сумасшедший!» – говорят ему, 10 лет, мол, ни за что отбарабанил в лагере. А он в ответ: «Благодаря Сталину, я, может быть жив и сижу за этим столом, а на войне сгинул бы». У меня было четыре брата. У отца хотели отнять лошадь. В 1938 году он перевез семью на конной телеге со всем нехитрым скарбом за неблизкий путь из райцентра Паричи в Бобруйск. Иначе говоря, сбежал на лошади из деревни в город. Купил в Бобруйске дом и зарабатывал лошадкой на жизнь. Тогда все земельные работы выполняли на лошадях. Таких работников называли грабарями. Благодаря лошади отец содержал большую семью. Кроме нас жили его отец и мать. Частная собственность преследовалась. Но и в Бобруйске отец с конем не расстался. Ездил на заработки в Осиповичи. Донесли на него, приехали к нам описывать имущество. А брать-то нечего. «Берите детей!» – сказала мать. Но забрали единственную в доме вещь – швейную машинку «Зингер». В предвоенную пору полтора года жил я у маминой бабушки близ Москвы в Очакове. После смерти Аллилуевой дети сложили частушку: Аллилуеву схоронили, Белый хлеб отменили. Скоро Сталин женится, И черный хлеб отменится. За такие частушки грозил большой срок родителям, но мы этого не разумели. Мать, словно предчувствуя неладное, забрала меня домой. А через месяц началась война. Мне исполнилось 8 лет, и я хорошо помню все происходящее. Отца по состоянию здоровья в армию не призвали. Он, собрав пожитки на телегу, повез нас в деревню Мирадино к родственникам. Пожили мы там около месяца и стали возвращаться назад в Бобруйск. Обочины вдоль дороги были сплошь усеяны разлагавшимися трупами наших солдат. Запах стоял невыносимый. И мать закрыла нас покрывалом, чтобы мы не видели этого жуткого зрелища. А еще более жуткая картина предстала на подъезде к мосту через Березину. Наши части, отступая, взорвали его. А часть войск осталась, не успев перейти через него. И тысячами трупов наших солдат было устлано западное побережье реки. У «Товарища» шло «немое кино» – про виселицы, наводившие жуть… В городе началось мародерство. Оккупанты ввели свой порядок. В поселке Киселевичи были продовольственные склады и склады боеприпасов. Люди устремились за мукой. За день делали по несколько ходок. А когда ноша становилась не по силам, ходоки муку с мешков отсыпали прямо на обочину дороги. После этого немцы выставили посты, и ходки прекратились. Но там оставались еще сигареты. И мы, пацанята, сделали несколько вылазок и припасли сигарет. Немцы также затаривались. С наступлением зимы начался голод. Я за котелок и в город. Мы уже знали, что немцы, особенно артиллеристы, более гуманные. Переминаешься с ноги на ногу с котелком, спросят: «Киндер, эссен?» и дадут котелок каши. Снисходительны к нам, пацанам, были итальянцы. Они частенько, будучи на подпитии, даже дрались с немцами, но оружия в ход не пускали. А потом начался террор. Особой жестокостью отличалась полевая жандармерия. На животе у жандармов была свастика с орлом поверх одежды. Однажды к нам пришла племянница, которая заболела тифом и вскоре умерла в больнице. На наш дом немцы повесили табличку «Тиф!» И фрицы к нам боялись нос сунуть. Мы этим пользовались и на случай очередной облавы прятали у себя соседей. Мать пошла работать на кухню в госпиталь и приносила оттуда картофельные очистки. Делала из них «котлеты». Старшего брата Николая жандармы схватили на улице и отправили на работу в... лагерь для военнопленных. Там их было около 12 тысяч. Их мучили голодом и расстреливали. И Коля целый день вывозил трупы на тачке к месту захоронения. Он пришел вечером домой «весь убитый». Мать не могла от него добиться, где он был, а он не мог проронить ни слова. После войны Николай окончил строительный факультет политехнического института, работал бригадиром, прорабом и в 28 лет стал начальником 13-го стройтреста СУ-73 г. Бобруйска. А волосы на его голове стали белыми, как снег и брат не дожил до 60 лет. Старший брат Сергей окончил Куйбышевский гидротехнический институт, попал в Целиноград (ныне Астана), был главным инженером горводоканала, после переехал в Новополоцк, где работал в техническом институте и два года тому назад умер. Минуя 1-й и 2-й классы школы, меня сразу определили в 3-й. Детей особенно не было, их с уроков забирали и брали кровь для раненых солдат вермахта. После таких «проб» мать меня в школу больше не пустила даже в «ускоренный» 3-й класс. Был приказ в течение трех дней сдать всех собак. За невыполнение – расстрел. И я повел на сдачу свою дворнягу. Сдал ее. И стал у забора подглядывать, куда же ее отправят. Немцы схватили меня, как и еще нескольких пацанов, дали в руки поводки на 4-х собак каждому и погнали нас за 10 км в сторону Минска. Потом я узнал, что этих собак они готовили для подрыва танков. Пригнав собак, нас отпустили домой, на ночь глядя. Дойдя до ближайшей деревни, я постучался в дом и впервые в жизни попросил милостыню. Меня впустила в дом женщина, дала картошки с молоком. И только назавтра мы вернулись домой. Мать сходила с ума. Все ближе фронт, все более частыми стали бомбежки. Отец построил в огороде блиндаж, в котором мы прятались на случай налета нашей авиации. Немцы, обнаружив такие блиндажи, бросали в них гранаты. Пришлось и нам пережить смертельный страх, когда немцы пересекали улицу мимо нашего блиндажа и, к нашему счастью, не заметили его. Наша жизнь и жизнь наших соседей висела на волоске. Перед наступлением Красной Армии (а это было начало операции «Багратион») немцы объявили эвакуацию. Кто не эвакуировался – расстрел. Мы загрузили телегу. Подошел сосед. Его сын был полицаем. И нагло заявил: «Я конфискую коня!». Отец: «Ах ты, сопляк!». А тот карабин наперевес, ставит отца к воротам и стреляет. Но карабин дал осечку. «Ну, повезло тебе, гад!» – забрал коня и уехал. В Бобруйске со времен войны есть кинотеатр «Товарищ». Рядом с ним городской рынок, на котором немцы установили виселицы. Во время проведения очередной экзекуции они вели молодых партизан и на глазах жителей города подвергали их казни через повешение. И я был свидетелем этих жестоких убийств. В подвале кинотеатра «Товарищ» во время освобождения города наши бойцы обнаружили группу эсесовцев. Вокруг кинотеатра росли каштаны. На них и повесили около 30 фашистских извергов. Без суда и следствия. В отместку за то, что они почти каждый день вешали партизан и подпольщиков. В конце 1942 года в центре города было гетто, в котором насчитывалось около 30 тысяч евреев. Фашисты заставляли пришивать к одежде желтую шестиконечную звезду Моисея. Того, кто выходил из гетто без нашивки звезды, расстреливали на месте. Евреев вели на убой как скот. Они даже не пытались убегать, хотя лес был рядом. 10 мужчин заставляли копать себе яму (считай могилу). По готовности ямы обреченных ставили на край, и эсесовцы расстреливали их. А следующие 10 человек должны были зарывать мертвых землей. После этого и их ставили на край могилы и расстреливали. Так повторялось 10 раз, пока в яме не оказывалось 100 человек. Потом изверги приступали к следующей яме... Бывало, земля «дышала» и «стонала» от еще заживо погребенных жертв массового геноцида. Случалось, что раненые, дождавшись сумерек, выползали из могил и пытались спастись. Потом фашисты, чтобы скрыть следы своих преступлений, приводили под конвоем военнопленных и заставляли их раскапывать ямы и сжигать трупы. Костры горели недели две, и стоял ядовитый запах гари... Рядом с кинотеатром «Товарищ» до наших дней сохранился Николаевский собор, а рядом сквер Челюскинцев, который немцы превратили в кладбище для своих вояк. Слышал, как будто там были преданы земле и несколько генералов. Еще был свидетелем того, как наши танки «Т-34», около 15 штук, в пригороде Бобруйска фашисты уничтожили огнеметами. Они горели как факелы и были обречены. А через несколько дней я впервые за всю войну увидел раненого солдата Красной Армии, который вошел в наш город, опираясь на винтовку. Радости моей не было конца. А потом появились артиллеристы. Увидев меня, подозвали к себе: «Эй, мальчик, иди сюда! Забери жеребенка от кобылы». Я снял ремешок и привел жеребенка домой. Отец и братья убили его, потому что есть было нечего. А я долго плакал. Такой неизгладимый рубец на моем сердце подростка оставила война. А потом началась мирная жизнь, также полная горьких страниц воспоминаний… Волей судьбы пришлось поработать постухом, грузчиком, рабочим-землекопом, рабочим военного аэродрома. Окончил 7 классов. Затем была учеба на земфаке Белорусской сельскохозяйственной академии в Горках. После окончания, был направлен на работу в Душанбе. Но туда не поехал. Остался здесь, женился. Работал в должности инженера-землеустроителя Горецкой МТС, а затем перешел в райисполком на ту же должность. Работал и в академии инженером-землеустротелем почвенного отряда. Занимался созданием почвенных карт. Работал инженером-строителем в учхозе. Строили новое озеро, плотину. Затем работал старшим инженером, заместителем начальника отряда, начальником почвенной партии и почвенной экспедиции. Обследовали почвы, проводили около ста тысяч анализов образцов на гранулометрический состав почвы, содержание гумус, металлов и других веществ. Окончил аспирантуру, написал кандидатскую диссертацию, 20 научных работ, но на ученую степень защищаться не стал. Работы всегда было много: исследование почв, составление почвенных картограмм, написание рекомендаций хозяйствам по рациональному использованию земель. И так до самой пенсии. В возрасте 77 лет вышел в отставку. Свою миссию землеустроителя-почвоведа перед матушкой-землей выполнил с честью. Рассказ записал Петр Детликович ×
В воздухе пахло грозой... Войны ещё не было. Но Германия захватила Австрию. Мы, ученики начальных классов школы в деревне Боровка, рассматривали политическую карту мира. Откуда гроза? О ней мы узнавали по молниям. О войне не знали практически ничего. И вдруг! 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. Мы не знали, никто не знал, что началась Вторая мировая война. Меня отправили учиться в г. Быхов. Так я стал учеником 5 класса Быховской железнодорожной семилетней школы № 25. На перерывах мы бегали на железнодорожную станцию смотреть на воинские эшелоны. Восхищались мужественными красноармейцами. Была уверенность: если враг нападёт... Но какой, откуда? Какие участки огромной границы Советского Союза наиболее уязвимы? Граница с Финляндией у самого Ленинграда. Война с финнами была короткая, но упорная, трудная, суровая. Самый пик морозной зимы. Ртутный столбик опускался ниже 40. Сам видел. С финнами закончили миром. Виппури стал нашим Выборгом, границу застолбили в десятках километров от Ленинграда. Помню лето 1941 года. Чистое, ласковое, ночи тёплые, живи и радуйся. В воскресенье, 22 июня, дядя Никифор, начальник нашей станции Барсуки, возвращался с ночного дежурства. Обычно жизнерадостный, в этот день — неожиданно встревоженный, угрюмый «Война!». Люди ахнули! Мощные фугасы взметнули тучу дыма, земли, пыли. И сразу гул. Эскадрилья появилась внезапно из-за железной дороги, с запада Черные кресты на фюзеляжах, свастика придавали чёрной стае еще большую мрачность. Южный небосвод застыл в густых тучах дыма. Горел Быхов. Полине с подругой Настей не верилось. Всего несколько дней назад им в торжественной обстановке вручили аттестаты о среднем образовании. Они рыдали, их школа сгорела. В пылающий город немцы ворвались 4 июля. А ещё через 4 дня после трёхсуточного боя они появились в Боровке. За это время жители деревни дважды убегали, спасаясь от артиллерийского огня. На четвёртый день возвращались домой, и шли мимо позиций батареи дальнобойных орудий немцев. Их первый эшелон наступления был уже далеко за Днепром. Вторая неделя оккупации. По поручению мамы отправился к тёте Жене. Они жили неподалёку большой семьёй: сама и семья дочери Ксении из шести человек. Дома был дядя Володя, инвалид советско-финляндской войны. Зашли двое: «Во, пан, камунист!». Толкнул дядю в грудь. Немец показал пистолетом на калитку. Я побежал в огород, где Петя, мой брат, и Володя, внук тёти, окучивали картошку. Они тотчас выбежали на улицу. Но машина уже удалялась от дома, дядя Володя стоял на подножке. Хлопцы побежали следом. Машина останавливалась несколько раз, они в это время ныряли в кювет. Когда ещё раз они приникли к земле, услышали два хлопка. Затем мотор взревел и автомобиль, развернувшись, промчался мимо. Дядя Володя лежал в окопе. Сиротами остались четверо детей. Грабежи. Обыски. Допросы. Жертвы... Так было почти каждый день. Однажды машина увезла и дядю Никифора, родного брата моего отца. Оголтелые доносчики не унимались: «Убьём, кого наметили. Твои сыны коммунисты...». Когда после первого бегства от артобстрелов вернулись домой, обнаружили, что кто-то пошарил в альбомах с фотографиями. Они были разбросаны, некоторых снимков не досчитались. Мои старшие братья Порфирий и Сергей служили в Красной Армии. Их фото в военной форме хранились в альбоме. При обысках дотошно спрашивали, кто на снимках, где они. — Отвечайт, — тоном, не терпящим возражений, сквозь зубы цедил долговязый фриц. — Будем вас немножко вешать...». А что такое «не отвечайт», «не послушайт» я тогда уже познал. Когда оглушил меня немец рельсом. Не буквально, а, взяв за воротник, приподнял и силой толкнул на полотно железной дороги. На рельсы. И не один был такой урок. Оккупанты очень боялись партизан. Вдоль железной дороги до 100 метров по сторонам вырубили всё до кустика, чтобы партизаны незаметно не пробрались к путям. Удивительная наивность! Доблестные патриоты устраивали настоящую рельсовую войну, подрывали эшелоны с техникой, живой силой противника. И вывели железную дорогу из строя. Немцы так-сяк восстанавливали движение, но народные мстители повторяли атаку. До войны наша магистраль Мурманск-Одесса действовала в двух направлениях одновременно. С большими издержками немцы собрали один рельсовый путь. Операция «Багратион» принесла освобождение и созидание. Уходя, немцы разрушали, жгли, уничтожали всё, что в материальном мире имело наименование. Железную дорогу изуродовали. Специализированные батальоны с помощью населения, вернувшегося из беженцев, наращивали насыпь и полотно, валили лес и заготавливали шпалы, вырезали куски рельсов, на каждой речке, овраге строили мосты. Советские люди проявили колоссальное усердие, совершили подвиг во имя Победы. Для нас, пятнадцати-щестнадцатилетних, это был примерный и памятный труд на всю жизнь. После железной дороги нас перебросили на восстановление стратегического аэродрома в Быхове. Поставили на довольствие, дали крышу над головой. Душевный подъём, уверенность овладевали нами, мы не замечали ни тягот, ни лишений. Между тем, нас ждали и поля. И школа. Начало учебного года отложили до 1 октября 1944 года. Герасим Стамбровский, ×
«Свой добрый век мы прожили как люди» Один за одним уходят из жизни не только ветераны Великой Отечественной войны, защитники Родины, и те, кто в тылу трудился, ковал Великую Победу над коричневой чумой. Уходит из жизни и моё поколение — дети военного лихолетья. Хочется на страницах районной газеты рассказать о том, что выстрадано и пережито мной в те далёкие дни детства, которое в мирное время называют безмятежным, беззаботным, счастливым. До сих пор, когда я вспоминаю о войне, перед моими глазами встают страшные картины повешенных на столбах советских людей, слышится сверлящий визг падающих бомб и пикирующих самолётов, доносится плач еврейских стариков, женщин и детой, которых гонят казнить на Мыслотинскую гору. Жители близлежащих домов и деревень с ужасом рассказывали, как несколько дней из-под земли слышались стоны недобитых людей и шевелилась земля. …Никогда не забуду тошнотворный вкус и запах вареной картошки, которой мама кормила меня и брата. А жмых (прессованная солома и зерно) для лошадей был для нас лучшим лакомством. Суп из лебеды, крапивы и щавеля весной и летом – главное первое блюдо. Но ужаснее всего был постоянный страх смерти. Казалось, он навсегда поселился в каждой клеточке нашего тела, сердца и души. Смерть не только от пули и жестокости иноземных палачей, но и от холода, голода и многочисленных болезней: оспа, корь, скарлатина, тиф... Уму непостижимо, как удалось выжить в таких адских условиях. До мельчайших подробностей помню, как освобождали Глусскую (мою малую Родину) от оккупантов. Я и сегодня удивляюсь, с какой фотографической точностью запечатлела моя память мельчайшие детали того судьбоносного дня. Вероятно, нам, старым людям, память о прошлом часто «дороже» реальности, в которой мы ничего не можем изменить, поэтому картины прожитого будоражат нас, часто снятся. Итак, 26 июня 1944 года. Три женщины-матери и нас, 8 детей, сидели в яме, вырытой в огороде соседки, и покрытой сверху толстыми досками и землёй. Это было недалеко от бывшего колхозного двора, где стояли немецкие пушки. Глусск горел, рвались снаряды на школьном дворе, где были немецкие казармы и склады с боеприпасами. Снаряды летели над нашим окопчиком, усевая землю осколками. Со стороны Бобруйска наступали наши войска, а немцы в панике бежали с колхозного двора прямо через наше укрытие. Один из них с гранатой в руках повернулся и увидел нас, плачущих, обезумевших от ужаса. Ещё миг... и смерть. Но то ли он опешил, а может вспомнил своих детей, все-таки не бросил гранату. Помню день 26 июня ещё и потому, что это был день рождения моего старшего брата, которого уже нет в живых. Но для нас это был второй день рождения. Хорошо помню, как вошли в Глусск наши воины-освободители, как, обнимали и целовали их, как дарили они нам, детям, кусочки настоящего хлеба. Божественная еда! Вкуснейшее лакомство! В те жаркие летние дни детвора пропадала на реке Птичь, до которой надо было добираться через большой цветущий луг, что тоже было небезопасно: земля здесь была напичкана смертельным грузом. Трава в рост человека. Огромное множество цветов: лютиков, незабудок, слёзок. …Война догоняла детей и в мирное время. Сколько смертоносного груза было оставлено на полях, пастбищах, в лесах?!. Подростки-пастушки находили боеприпасы, разряжали их, бросали в костры, и «теряли» глаза, руки, ноги, становились калеками, а то и погибали. Вот почему после войны мы так ценим каждый миг жизни, стремились успеть сделать многое. Рано взрослели, учились на совесть, честно трудились. Ирина Тумилович, ×
Юные мстители Пионерка Тася Фомченко вместе с сестрой Людой активно помогали партизанам: пекли хлеб, собирали продукты, медикаменты, доставляли нужные сведения. С осени 1943 года они в составе 115-й партизанской бригады участвовали в боях с гитлеровцами. После войны Тася всю жизнь прожила в своей родной деревне. Я. Галковская, ×
И взорвалось сердце гранатой Таисия Владимировна Фомченко, бывшая партизанка 115-й Горецкой партизанской бригады, в послевоенное время – библиотекарь Панкратовской средней школы: — Это случилось 1 июня 1944 года. Мы возвращались в партизанский лагерь из очередного задания. Разведку вражеского гарнизона провели успешно, добыли очень ценные сведения, а потому настроение у нас троих было радостное. Женя Воробьев, как всегда, насвистывая мелодию любимой песни, шел впереди, а мы с Ниной Емельяновой — следом за ним. Беда настигла нашу тройку в самом, казалось бы, неожиданном месте — на лесной тропинке в каких-нибудь трех километрах от партизанского лагеря. «Хальт, партызанен! Хэндэ хох!» — раздался из-за кустов требовательный окрик одного из немцев, находившихся в засаде. «Ложись!» — тут же скомандовал нам Женя Воробьев и, сорвав с плеча автомат, первым открыл огонь по гитлеровцам. Завязался бой. Фашистов в засаде оказалось порядочно, а нас — трое. Да и боеприпасов имели мы с собой ограниченное количество. В первые же минуты перестрелки Женя получил тяжелое ранение. Мы с Ниной подползли к нему и хотели оттащить в более безопасное место. Но Женя, превозмогая боль отстранил мою руку. «Не надо, Тася! Не надо. И, глубоко втянув в себя глоток воздуха, потребовал: «Уходите, девочки!.. Я прикрою вас... А маме моей передайте, что сын ее никогда не был трусом...» Отбежав немного в лес, я оглянулась и увидела, как с полдесятка фашистских солдат, пригнувшись, бежали с автоматами наперевес к юному герою, видимо, рассчитывая взять его живым. Тогда Женя Воробьев поднялся во весь рост и, зажав в руке гранату, пошел навстречу врагам. А еще через какое-то мгновение лес содрогнулся от взрыва. Наш юный товарищ погиб. Но мне и до сих пор кажется, что тогда, на лесной тропинке, взорвалась не граната, а само Женино сердце. Взорвалось, испепелив грозным пламенем тех, кого он страшно ненавидел врагов родной земли. Да, Женя был прав: не трусом он умер — героем! И за этот подвиг юный мститель был удостоен ордена Отечественной войны І степени. Похоронен юный герой в так называемом Бороновском лесу на Оршанщине в братской могиле, над которой шефствуют пионеры близлежащей школы-семилетки. Но память о юном герое живет и в его родном районе: так один из отрядов пионерской дружины Горецкой средней школы № З носит имя юного героя Жени Воробьева. Ему, мужественному мальчику, посвящают свои стихи многие члены литературного объединения «Парнас» которое существует при Белорусской сельскохозяйственной академии в Горках. Июль — в цвету, земля – в цвету. И я держу в руках ромашки: Из слов и из цветов сплету Венок для незабвенных наших. В нем перевью печаль, и радость, И боль потерь военных лет, Чтоб вечно шли под солнцем рядом С живыми те, кого уж нет. Аркадий Кандрусевич ×
Юныя мсціўцы ...У маі 1943 г. партызаны атрада Батрака затрымалі ў лесе непадалёку ад партызанскага лагера двух хлапчукоў. Да іх падышоў камандзір і спытаў: «Чаго бадзяецеся па лесе?» — Мы не бадзяемся, а шукаем партызан. — А што ж вы хочаце ім сказаць? — Вядома што: хочам фашыстаў біць! — Чым? Можа з рагаткі? — партызаны дружна засмяяліся. — У нас ёсць зброя і патроны, вось тут недалечка прыхаваны. 3 гэтымі словамі хлопцы пабеглі ў хмызняк. Праз некалькі хвілін вярнуліся са зброяй і торбачкай з патронамі. Камандзір узяў у рукі адну з вінтовак, у якой замест рэменя была прывязана вяроўка, аглядзеў яе і сказаў: — Малайцы, хлопцы, што збіраеце зброю і патроны. Усё гэта мы забяром. А вы, — скамандаваў ён, — марш дамоў. Малыя вы яшчэ ваяваць. Хлапчукі не чакалі такога павароту справы і здзіўлена паглядзелі на камандзіра, затым на партызан і спынілі свой позірк на мне. — Дык гэта мы малыя? — злосна сказаў вышэйшы хлапчук. — У вас вунь дзяўчаты ваююць, а мы хоць малыя, але ж мужчыны. Не прымеце ў атрад — будзем дзейнічаць самастойна. Зробім засаду на шасэ і закідаем фашыстаў гранатамі. — Дзе ж вы возьміце гранаты? — Гэта наша справа, — адказалі яны, — а мы дамоў не пойдзем, не хочам, каб нас загналі ў Германію або прымусілі капаць акопы. — Ну што, хлопцы, — звярнуўся камандзір да партызан, — можа сапраўды возьмем іх у атрад? Так сталі партызанамі 17-й брыгады два Фёдары з вёскі Сава Горацкага раёна Чэрнікаў і Шахненка. Вольга Гулевіч, ×
Маленькие солдаты большой войны 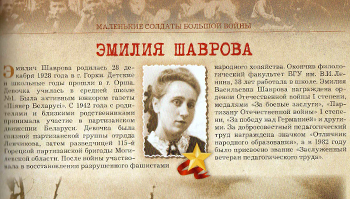
Вавуло, В. В. Маленькие солдаты большой войны / В. В. Вавуло. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2019. – 224 с. : ил.
Эмилия Шаврова родилась 28 декабря 1928 года в г. Горки. Детские и школьные годы прошли в г. Орша. Девочка училась в средней школе №1. Была активным юнкором газеты «Піянер Беларусі». С 1942 года с родителями и близкими родственниками принимала участие в партизанском движении Беларуси. Девочка была связной партизанской группы отряда Ленчикова, затем разведчицей 115-й Горецкой партизанской бригады Могилевской области. После войны участвовала в восстановлении разрушенного фашистами народного хозяйства. Окончив филологический факультет БГУ им. В.И. Ленина, 38 лет работала в школе. Эмилия Васильевна Шаврова награждена орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны» I степени, «За победу над Германией» и другими. За добросовестный педагогический труд награждена значком «Отличник народного образования», а в 1982 году было присвоено звание «Заслуженный ветеран педагогического труда». В. Вавуло ×
Стихи Эмилии Шавровой Быть солдатом нам сердце велело Посвящается Кате Кириленко
Поднималась на подвиг страна – Быть солдатом нам сердце велело. Мы не знали покоя и сна От фашистских облав и обстрелов. В партизанском лесу фронтовом Разрывалися мины-магнитки… Мы боролись с коварным врагом, И на возраст здесь не было скидки. На дорогах промёрзлых лесных, Безымянных путях, полустанках Мы девчонок теряли своих. Плачу сердцем о тех партизанках… Уж давно отгремели бои, Поседели друзья боевые. Только снятся девчонки мои, Синеокие и молодые. Пусть в походах тогда боевых... Пусть в походах тогда боевых Разрывались над нами снаряды, На привалах коротких своих – Мы мечтали о мирных нарядах… А с рассветом – обстрелы и бой, Не по-девичьи трудные вёрсты… Мы гордились своею судьбой, Долгом чести считали геройство. И в тяжёлой, упорной борьбе – За Победу любимой Отчизны, Отдавали весной на заре Молодые, горячие жизни. Эмилия Шаврова ×
Человек-легенда Виктор Владимирович Фомченко родился в д. Рекотка Горецкого района в 1925 году. До войны окончил 9 классов средней школы № 2 г. Горки (до этого – Панкратовскую семилетку). Среди сверстников выделялся инициативностью, энергичностью, жизнелюбием, чувством дружбы и товарищества. Никто не мог сравниться с ним по бегу. Любил футбол. С виду худенький, живой паренек Виктор Фомченко был горазд на все. Казалось, он был без костей. Играл на гармошке, выбивал плясовую. И это не мешало ему оставаться серьезным. С детства он мечтал стать военным, поэтому любил носить военную форму, которую подарил ему старший брат Володя. За эту форму и военную выправку его в школе прозвали «лейтенант». В 16 лет окончилась беззаботная юность Виктора Фомченко с радостями и мечтами. С первых дней объявления войны комсомольцы и молодежь д. Рекотка, бывшие выпускники Панкратовской школы, решили пойти добровольцами на фронт. Среди них – и братья Фомченки – Гриша и Витя. Но путь оказался отрезанным немцами. Возвратившись домой, решили стать народными мстителями. Отец Гриши и Вити Владимир Петрович Фомченко возглавил подпольную группу по борьбе с оккупантами. Группа занималась сбором оружия, боеприпасов, писала листовки, в которых призывала население всячески вредить гитлеровской своре. Активным подпольщиком был Виктор Фомченко: смелым, находчивым, изворотливым, бесстрашным при выполнении боевых заданий. Ненавидел изменников Родины и их пособников. Действия подпольщиков приводило в ярость «хозяев нового порядка». Начались аресты. Вскоре арестовали Владимира Петровича Фомченко. Освободить арестованных поручили Виктору, но в деревне Голышено он был схвачен карателями и брошен в сарай. Бургомистр Кульбацкий от восторга потирал руки. Наконец-то ему удастся разузнать о партизанах от этого паренька. Но бургомистр просчитался. На все вопросы Виктор молчал и с ненавистью смотрел на бургомистра. Тот не выдержал и сердито ударил юношу шомполом по голове. Полицаи долго издевались над ним. Очнувшись, Виктор увидел в комнате немецких офицеров. Он понял, что разговор шел о нем. – Неужели и этот мальчик тоже партизан? – Да, он убивал наших солдат… Больше Виктор ничего не слышал, снова потерял сознание. Виктору удалось бежать из плена, и он ушел в партизаны. Группа подпольщиков из Рекотки пополнила ряды партизанской бригады «Звезда». Виктор вместе с братом Гришей и отцом с оружием в руках сражались против немецких захватчиков. Виктор добровольцем ушел на фронт, был минометчиком. Сражался под Витебском в составе 199 Смоленской дивизии. 18 января 1944 года дивизия наступала в направлении Витебска. Враг упорно сопротивлялся. Еще до рассвета, под покровом темноты, минометный батальон 617 стрелкового полка вошел в нейтральную зону и начал установку минометов в глубоком овраге. Среди них было и два минометных расчета друзей детства Вити Фомченко и Васи Воробьева, которые начинали вести борьбу с фашистами еще в 1941 году в родной деревне. Весь день шел горячий бой. Минометчики работали четко. Немало фашистов нашло здесь свою погибель. К вечеру немного утихло. «Теперь до утра будут сыты», – улыб¬нулся Василий. Мол, накормили фашистов досыта. И будто накаркал: враг начал минометный обстрел. Неожиданно Виктор почувствовал удар в спину от разорвавшейся рядом мины. Осколками посекло всего: руки, живот, спину, челюсть, оторвало ногу. Первую помощь оказал друг Вася. Нашли лошадь, и истекающего кровью Виктора до¬ставили в медсанбат. Шансов было немного, но врачи боролись за жизнь солдата. Три сложные операции сделали Виктору в Калужском военном госпитале. Потом привезли в Москву – и снова операция. Казалось, на теле не осталось ни одного живого места. Восемь месяцев шла борьба за жизнь Виктора Фомченко. И смерть отступила. Находясь в госпитале, боец очень много читал книг. После выписки в августе 1944 года возвратился в д. Рекотка. Те, кто знал его раньше как веселого танцора, теперь смотрели на него с жалостью. Инвалид, без ноги. В 20 лет... Как когда-то перед отцом, так теперь перед сыном возник вопрос: с чего начать, как стать полезным людям? Вокруг пепелища, горе. Он долго стоял тогда перед своей полуразрушенной школой, вспоминая юность, давние мечты. Может тогда и пришло решение, но сначала нужно было победить самого себя, одолеть боль. Тяжело найти те слова, чтобы передать мужество этого человека. Раненый, больной, он нашел в себе силы, чтобы сдать экстерном за десятилетку, поступить в вуз, продолжить учебу и получить диплом учителя. Поступил заочно в БГУ на географический факультет. Одновременно начал преподавать в Панкратовской десятилетке. Но почему географию? На этот вопрос отве¬тил: «За время войны выучил географию наполовину – практически. Осталось выучить теоретически». Несколько раз предлагали переехать в Горки, не согласился: «Здесь мои корни». Не хотел изменять своей земле, за которую проливал кровь вместе с товарищами, отцу, долгое время работавшему директором этой школы. В жизни нередко случаются моменты, когда нужно проявить исключительную выдержку, мужество. В такие мгновения как никогда раскрывается моральный потенциал человека, сила его характера. В педагогическом коллективе, который долгое время возглавлял В. В. Фомченко, установилась атмосфера творческого поиска и взаимоподдержки. Руководить школой, считал Виктор Владимирович, значит знать заботы учителей и учеников. Во всем опирался на коллектив – характерная черта его стиля работы. Учитель, завуч, директор Панкратовской средней школы – ступенька к ступеньке рос он в своем мастерстве и профессионализме к зрелости, к великому педагогическому и человеческому званию. Жизнь Виктора Владимировича – это подвиг. Родина по достоинству оценила боевые и трудовые заслуги, наградив его тремя орденами Отечественной войны I и II степеней, пятнадцатью медалями, Грамотой Верховного Совета БССР, Почетными грамотами Министерства образования БССР и БРК профсоюза, знаками отличника просвещения БССР и СССР. Ему присвоено звание «Заслуженный учитель БССР». Л. Минина. ×
Все так и было… …Весть о начале войны застала 16-летнего юношу в родной деревне Рекотка. Думалось, что фашистскую армаду остановят, разобьют и фронт не дойдет до Горок. Но сведения с передовой поступали все более тревожные. С запада стала слышна артиллерийская канонада. Виктор вместе с братом Гришей и другими односельчанами допризывного возраста направились в райвоенкомат, но гитлеровцы уже заняли райцентр и ребята возвратились домой. Отец Виктора – учитель Владимир Петрович думал о народном горе, волновался за судьбу учеников и своих детей. А их у Владимира Петровича и Евдокии Панкратовны было шестеро: Владимир учился в военном училище, а двое сыновей и трое дочерей жили с ними. Выход он видел в борьбе с оккупантами. И учитель создает подпольную группу, в которую входили школьники, его дети и некоторые другие патриоты Рекотки и окрестных деревень. Подпольщики собирали и прятали в тайниках оружие и боеприпасы, переписывали и распространяли в соседних селах и райцентре листовки, в которых содержался призыв к саботажу распоряжений оккупацион¬ных властей по сбору и сдаче немцам продовольствия, к вооруженной борьбе с врагом. Пока группа организационно не окрепла и не имела боевого опыта, Владимир Петрович предостерегал ребят от проведения боевых действий. Но юных патриотов трудно было удержать от участия в диверсиях. И учитель разрешил действовать... Юноши приметили, что по дороге Панкратовка-Рекотка-Мошково в направлении Дрибина время от времени ездят группы немцев численностью до взвода. Подпольщики решили совершить на них нападение. На возвышенности в мелколесье рядом хорошо просматривалась дорога. Фрицы даже не мыслили об опасности и спокойно подходили все ближе к месту засады. Юноши дружным кинжальным огнем уничтожили 12 немцев, некоторых ранили и тут же быстро растворились в прилегающем дремучем лесу. Вместе с братом Григорием, Евгением Дмитриевым, Николаем Мельниковым и другими юными мстителями метко разил вражеских солдат самый молодой подпольщик Виктор Фомченко. После удачно проведенной операции подпольщики стали еще более активно проводить диверсионную работу: уничтожали проводную связь, нападали на одиночные вражеские машины и мелкие группы солдат. Немцы усилили репрессии, ужесточили оккупационный режим насилия и террор. Однажды около деревни Голышино полицейские задержали Виктора, который вел разведку, избили шомполами и прикладами до потери сознания и признаков жизни. Решив, что он мертв, полицейские уехали. Жители деревни спасли Виктора. Оставаться в деревне подпольщикам стало опасно. Руководители подполья Владимир Фомченко и Василий Старовойтов переправили подпольщиков в лес. В ряды партизан в лес ушел и Владимир Петрович с двумя сыновьями и тремя дочерями. Фашисты остервенели. Они ворвались в деревню, казнили Евдокию Панкратовну, сожгли дом, издевались над сельчанами. Виктор мстил врагам, смело и мужественно сражался с оккупантами. Будучи разведчиком и подрывником, Витя вместе с друзьями пустил под откос пять воинских эшелонов противника на перегоне Могилев-Кричев. На его счету немало уничтоженной техники и живой силы противника. В октябре 1943 года партизаны соединились с частями Красной Армии на славгородской земле. Виктор Фомченко становится командиром минометного расчета и участвует в кровопролитных боях под Витебском. Недолго ему пришлось воевать в рядах фронтовиков. 18 января 1944 года Виктор был тяжело ранен. Осколками разорвавшегося снаряда ему оторвало ногу, раскрошило челюсть, ошпарило спину. Была нанесена черепно-мозговая травма. Санитары вывезли Виктора из поля боя в бессознательном состоянии. Его лечили сначала в полевом госпитале, а затем в трех московских госпиталях. Опытные хирурги сделали семь сложных операций, медики немало дней и ночей провели у постели солдата, спасли ему жизнь. Виктору пришлось перетерпеть мучительную боль, бессонные ночи. Солдат выдюжил. Более года провел он в госпиталях. За это время при помощи учителей усвоил все учебные дисциплины за десятый класс (перед войной он закончил 9 классов) и там, в госпитале, получил аттестат зрелости с отличием. Возвратился домой в начале 1945 года. Ему предложили стать учителем географии в родной Панкратовской школе. Нелегко было Виктору постигать азы педагогического дела. Сила воли и целеустремленность и здесь помогли. Виктор поступает на заочное отделение геофака БГУ, шаг за шагом овладевает знанием своего предмета и методикой преподавания. Ему доверили работать завучем школы, а с 1951 пода Виктор Владимирович 35 лет бессменно был директором Панкратовской средней школы. …За мужество в годы войны В. В. Фомченко награжден тремя орденами Отечественной войны первой степени, а за плодотворную педагогическую деятельность ему присвоено высокое звание «Заслуженный учитель БССР». А. Осмоловский. ×
Усімі паважаны чалавек Кожную раніцу да Панкратаўскай сярэдняй школы ідзе высокі статны чалавек. Ідзе паволі, крыху абапіраючыся на палку. Тут яго добра ведаюць. Гэта дырэктар школы Віктар Уладзіміравіч Фомчанка, усімі паважаны чалавек. I аднавяскоўцы, і навучэнцы, сустрэўшыся з ім, абавязкова кажуць: – Добры дзень, Віктар Уладзіміравіч! – Дзень добры, – ветліва адказвае той. А нярэдка даводзіцца спыніцца, пагутарыць з чалавекам, адказаць на пытанні, якія яго цікавяць. I зноў працягвае свой шлях. I тады да яго зноў прыходзяць думкі аб школе, аб тым, што трэба зрабіць у першую чаргу, як пройдзе гэты працоўны дзень. Клопатаў жа ў дырэктара заўсёды шмат. Віктар Уладзіміравіч – чалавек, які да глыбіні душы адданы сваёй справе. Вось ужо 26 гадоў працуе ён на ніве народнай асветы. А перад тым, як стаць настаўнікам, яму давялося са зброяй у руках адстойваць свабоду і незалежнасць нашай Радзімы. Калі пачалася Вялікая Айчынная вайна, Віктару Фомчанку было 16 гадоў. Вораг хутка прасоўваўся на ўсход, і ў ліпені сорак першага тэрыторыя нашага раёна была акупіравана нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Але савецкія людзі не скарыліся. У падпольных арганізацыях, у партызанскіх атрадах яны вялі барацьбу з ворагам. Стаў партызанам і Віктар Фомчанка. У саставе брыгады «Уперад» ён удзельнічаў у многіх баявых аперацыях, вызначаўся смеласцю і адвагай, ўменнем самастойна прыняць правільвае рашэнне. У кастрычніку 1943 года Віктар Уладзіміравіч уліўся ў рады Савецкай Арміі. Ваяваў у саставе 617-га стралковага палка. У баях з нямецка-фашысцкімі захопнікамі быў неаднаразова ранены і кантужаны. У жніўні 1944 года, дэмабілізаваны па стану здароўя ён прыехаў у родную вёску Рэкатка. А ў верасні ўжо працаваў у Панкратаўскай сямігодцы. Без адрыву ад працы ў 1950 годзе закончыў геаграфічны факультэт Беларускага Дзяржаўнага уўіверсітэта і з 1961 года – дырэктар сярэдняй школы. В. У. Фомчанка – педагог высокай кваліфікацыі. Урокі геаграфіі вядзе на высокім ідэйна-палітычным і метадычным узроўні і патрабуе гэтага ад усяго настаўніцкага калектыву школы. Дырэктар школы пастаянна клапоціцца аб расшырэнні вучэбнай плошчы і ўмацаванні матэрыяльнай базы. За апошнія гады пабудаваны новыя і капітальна адрамантаваны вучэбныя карпусы, інтэрнат, сталовая. Абсталяваны прадметныя кабінеты. Камуніст В. У. Фомчанка праводзіць і вялікую грамадскую работу. Ён кіруе агіткалектывам, з’яўляецца старшынёй пярвічнай арганізацыі таварыства «Веды». Сістэматычна выступае перад насельніцтвам з лекцыямі і дакладамі на грамадска-палітычную і педагагічную тэматыку. Асаблівую ўвагу звяртае патрыятычнаму выхаванню моладзі. За ратныя подзвігі і сумленную працу В. У. Фомчанка ўдастоен многіх узнагарод. На яго грудзях ордэны Айчыннай вайны першай і другой ступеняў, пяць медалёў. У 1968 годзе яму прысвоена званне «Заслужаны настаўнік БССР». С. Сасноўскі.
Юные герои. Дети войны

|
 Нарадзіўся ў 1932 г. у в. Пузікі Ленінскага сельскага Савета. У верасні 1943 года адзінаццацігадовым хлапчуком трапіў на фронт добраахвотнікам. Службу праходзіў выхаванцам, а затым разведчыкам 18-й гвардзейскай механізаванай брыгады. Удзельнічаў у Ясса-Кішынёўскай аперацыі. За гэтую аперацыю яго прадстаўлялі да ордэна Чырвонай Зоркі, але ў ходзе баёў дакументы былі страчаны. Пасля фарсіраванні ракі Прут яму было прысвоена званне малодшага сяржанта. Перамогу сустрэў у Аўстрыі ў трыццаці кіламетрах ад Вены.
Нарадзіўся ў 1932 г. у в. Пузікі Ленінскага сельскага Савета. У верасні 1943 года адзінаццацігадовым хлапчуком трапіў на фронт добраахвотнікам. Службу праходзіў выхаванцам, а затым разведчыкам 18-й гвардзейскай механізаванай брыгады. Удзельнічаў у Ясса-Кішынёўскай аперацыі. За гэтую аперацыю яго прадстаўлялі да ордэна Чырвонай Зоркі, але ў ходзе баёў дакументы былі страчаны. Пасля фарсіраванні ракі Прут яму было прысвоена званне малодшага сяржанта. Перамогу сустрэў у Аўстрыі ў трыццаці кіламетрах ад Вены.
 Участник подпольного и партизанского движения в Горецком районе. Член 35-го Горецкого партизанского отряда.
Участник подпольного и партизанского движения в Горецком районе. Член 35-го Горецкого партизанского отряда. Член подпольной группы Лихачевской МТС, шестиклассник Селецкой неполной средней школы Горецкого р-на.
Член подпольной группы Лихачевской МТС, шестиклассник Селецкой неполной средней школы Горецкого р-на. Когда началась война, в деревне Клин поселились партизаны, жили по домам, а затем ушли в лес. В основном это были окруженцы из под Могилева. Местные жители поддерживали с ними связь, особенно молодежь. Тамара Крысикова на машинке печатала листовки, а маленькая, тогда пятнадцатилетняя, Анечка и другие дети следили за тем чтобы в деревне не появились немцы.
Когда началась война, в деревне Клин поселились партизаны, жили по домам, а затем ушли в лес. В основном это были окруженцы из под Могилева. Местные жители поддерживали с ними связь, особенно молодежь. Тамара Крысикова на машинке печатала листовки, а маленькая, тогда пятнадцатилетняя, Анечка и другие дети следили за тем чтобы в деревне не появились немцы. Уроженка деревни Задорожье Горецкого района.
Уроженка деревни Задорожье Горецкого района. Шестиклассник Панкратовской средней школы Горецкого р-на, участник Великой Отечественной войны.
Шестиклассник Панкратовской средней школы Горецкого р-на, участник Великой Отечественной войны. 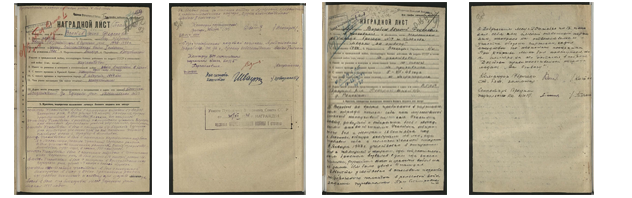

 Майя Ефимовна Гладкая (Квитинская) родилась 13 марта 1937 года в городе Горки. Училась в СШ № 2 г. Горки. Окончила Минский библиотечный техникум (1955), Минский педагогический институт им. М. Горького (1962) по специальности «Библиотековедение».
Майя Ефимовна Гладкая (Квитинская) родилась 13 марта 1937 года в городе Горки. Училась в СШ № 2 г. Горки. Окончила Минский библиотечный техникум (1955), Минский педагогический институт им. М. Горького (1962) по специальности «Библиотековедение». Пионер Андрей Исаков в годы Великой Отечественной войны вместе с Колей Васильевым и Петей Шитиковым помогал партизанам. Собирал оружие для них, носил продукты питания, одежду, собирал сведения о фашистах. Был отважным, смелым разведчиком. После соединения с частями Советской Армии ушел на фронт.
Пионер Андрей Исаков в годы Великой Отечественной войны вместе с Колей Васильевым и Петей Шитиковым помогал партизанам. Собирал оружие для них, носил продукты питания, одежду, собирал сведения о фашистах. Был отважным, смелым разведчиком. После соединения с частями Советской Армии ушел на фронт.
 Преподаватель Белорусского государственного аграрно-технического университета
Преподаватель Белорусского государственного аграрно-технического университета

 У дзяцінстве была яна невялічкага росту, бялявенькая, вельмі рухавая дзяўчынка. Таму і называлі яе ў вёсцы Клін ласкава – Ганначка. Замацавалася гэта імя на ўсё жыццё. I цяпер, хоць Ганне Аляксандраўне 79 год, яна ўсё роўна для ўсіх Ганначка.
У дзяцінстве была яна невялічкага росту, бялявенькая, вельмі рухавая дзяўчынка. Таму і называлі яе ў вёсцы Клін ласкава – Ганначка. Замацавалася гэта імя на ўсё жыццё. I цяпер, хоць Ганне Аляксандраўне 79 год, яна ўсё роўна для ўсіх Ганначка.