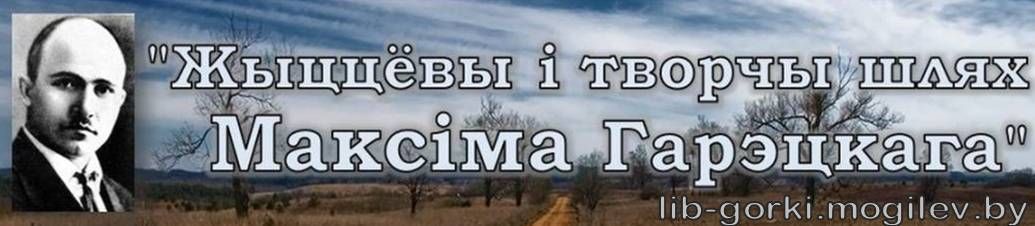Виктор Коваленко
Трагическая мечта о буйном колошении…
Философия национальной жизни в творчестве М. Горецкого
|
Если белорусская интеллигенция оторвется в самом начале от своего народа, она хотя и не погибнет и будет кое-как прозябать и расти, но буйного колошения не будет никогда. М. Горецкий. Рассуждения и мысли. |
Творчество Максима Горецкого и его образ как человека, писателя и гражданина остаются сегодня, на наш взгляд, довольно загадочными в истории духовной жизни белорусского народа. Критик С. Дубавец написал даже (безусловно, с некоторым преувеличением), что М. Горецкий «совершенно необьясним» («Нёман», 1993, N 2). Возможно, эта загадочность и необьяснимость несколько мнимые, так как они, скорее всего, провоцмруются малоизученностью художественного и публицистического наследия писателя. Известны блистательные работы А. Адамовича и М. Стрельцова, доказательные публикации М. Мушинского, Д. Бугаева и некоторых других литературоведов и критиков. Но этого катастрофически мало. Особенно слабо по причине идеологических ограничений и запретов изучена проблема глубоко внутреннего, смыслового соответствня идей писателя передовым устремлениям времени. К такой ситуации, конечно же, в первую очередь причастно то обстоятельство, что М. Горецкий был репрессирован и обращение к его творчеству, как тогда водилось, запрещалось. Кроме того, сами темы «писатель и народ» или «национальный пафос творчества» — если даже иного писателя и миновала трагнческая судьба — не поощрялись, к ним просто остерегались подходить. Даже в работах А. Адамовича, в идейном отношении очень смелых, чувствуется какое-то сдерживающее внутрениее препятствие при выходе к проблемам народности и национального сознания. Таков был диктат времени.
И еще: пробиться к мировоззренческим глубинам в ощущении жизни литературоведению и критнке мешал рецидив укоренившегося представления, привитого в период тоталитарного политического господства над духовным состояннем общества, что литература и искусство — это система каких-то вертикальных иерархических ценностей: «партийный писатель», «менее партийный» или вовсе «непартийный», «народный» и «менее народный». Конечно, в какой-то степени иерархическое положение писателя существует хотя бы потому, что художественный уровень творчества — не абстрактное понятие. Но этот уровень не измеряется по прямой вертикали. Творчество всякого серьезного писателя самоценно, если можно так сказать — пространственно. Вот почему нельзя ставить для исследования вопрос, кто пз писателей более «народный» или кто из них более предан нацпональной идее — Янка Купала или Максим Богданович, Якуб Колас или Максим Горецкий. Литература — это скорее конгломерат горизонтальных, пространственных составляющих идейно-художественного единства, где плодотворно осуществляются все творческие личности, по принципу — каждый по-своему, но ради общего.
Начало XX века в истории белорусской культуры — это утро больших предчувствий и больших прорывов художественной мысли, вдохновенное собирание живых проявлений духовного возрождения белорусского народа, познание и осмысление глубин национальной души, выход к универсально-космическому ощущению мира. В такое время рождаются будители и пророки, но именно тогда, же объединяющая сила национального духа подчиняет себе все, даже самые незначительные творческие усилия, направляя их в единое русло и к единой цели. Поэтому такой период в истории развития национальной литературы может казаться сплошным ровным массивом, где слабо различаются возвышения и низины. Более того, в этот период самые высокие фигуры на поле творческой деятельности как бы стесняются своей избранности, исключительности и готовы поступиться ими ради всеобщего устремления, даже не прочь принизить значение своей собственной личности. Прекрасно сознавая свою роль в процессе национального возрождения, Янка Купала, действительный будитель и пророк нации, тем не менее отказывал себе даже в звании поэта: «Я не паэта, о крый мяне Божа!» («Я не поэт», 1905—1907).
Максим Горецкий — один из самых выдающихся деятелей в литературной, культурной и политической жизни Беларуси первой половины XX века. Он из числа самых видных «творцов», «создателей» нации, кто вместе с Янкой Купалой, Якубом Коласом, Максимом Богдановичем, Змитроком Бядулей, Алесем Гаруном искал и находил затерянные феномены национальной духовной жизни. Ему тоже, как и многим другим, свойственно ощущение себя в качестве усредненной единицы в массовом шествии к всеобщей народной цели. Один из его рассказов так и называется — «Идут все — иду я» (1919). Косвенно идея коллективистской одинаковости присутствует и в образном строе одного из самых концептуальных рассказов писателя «Озимь» («Рунь», 1914). Одна из героинь, Ядя, интеллигентка, вышедшая из народа, говорит: «Мы — озимь». Конечно же, озимь («рунь») — это в первую очередь аллегория молодых культурных сил Беларуси, но в ней угадывается также знак всеобщности, коллективного и равного стремления к солнцу, к торжественному моменту вызревания и колошения, происходящему в одночасье.
В чем же смысл подобного «уклона» в художественном сознании белорусских писателей начала XX века? Он достаточно открыт и прозрачен. С больших высот интеллектуального познания труднее распознаются низовые уровни жизни. А ведь там, в самых донных пластах народного бытия, кроются все ответы на вопросы о современной и будущей судьбе любимой родины. Поэтому надо идти туда — в самый низ народного существования, не страшась грязи и флюидов, исходящих от клоаки господствующего строя, унижающего трудовой народ. Писатель убежден, что без осмысления «физиологии» национальной жизни не может возникнуть ее философия. А для этого необходимо быть тоже там, в самом низу, или хотя бы «принизиться», так как в подобном внутреннем состоянии легче со всей непосредственностью ощутить и увидеть определяющие волокна народной души.
Физиология и философия, низ и верх, земля и небо, темень и свет, ночь и день, грязь и красота, хлеб насущный и духовный порыв, варварство и гуманизм, мужицкое и господское — противоречия, которые лежат в основе всех проблемно-образных построений белорусской литературы начала XX века. В этих противоречиях исток всех ее философских ощущений, Отсюда, из этого первоначального источника питаются все ее мысли, в том числе — мысль национальная.
Почему — и национальная? Потому что антиномическое столкновение или противоречивое сочетание как-будто полярно разведенных начал в данное историческое время, в начале XX века, составляли внутренний облик нации, ее ментальную сущность. Она, белорусская нация, ненавидела себя и одновременно верила в себя. В самом изначальном моменте духовного возрождения ей были свойственны «две души». Таково название одной из повестей М. Горецкого, рассказывающей об одной из самых трагических страниц народной жизни, когда противостоящие начала выявлялись в предельно обостренной форме, в столкновении и борьбе, образуя процесс преодоления собственных внутренних несовпадений, вырабатывая новые формы, сочетания, которые должны были порождать красоту и гармонию. Стихотворение М. Богдановича «Калі ў ракавіну цёмную жамчужніцы» (1912) о драгоценном камне, образовавшемся из грязи, является образом-символом текущего бытийного самочувствия белорусского народа. В сущности, вся история белорусской литературы, особенно начала XX века, зиждется на философской доминанте духовного преодоления извечной патриархальной отсталости крестьянского уклада жизни и зарождения в нем высокого нравственного зрения как общечеловеческой основы зрения национального.
Насколько глубокой и исторически предопределенной оказалась эта традиция полярных представлений о мире, указывающих на его сложность и трудную познаваемость для простого человека, свидетельствует тот факт, что она в том или ином проявлении иногда возвращается и в современную литературу.
Что кроется за этой ментальной особенностью белорусского ощущения мира? Почему писатели так страшатся жизненных представлений, согласно которым, как у всех романтиков, идеал и существующая действительность разведены на удаленные расстояния? Во-первых, ход самой жизни не подтверждает такого глобального отдаления. А, во-вторых, что наиболее важно для понимания концептуальных интересов белорусской литературы, ощущение мира как далеко разведенных противоположных морально-духовных сущностей делало веру в светлое будущее народа менее реальной, даже недостижимой. Если идеал так далек, а действительность народного быта так неподвижна и мерзка, то может возникнуть сомнение: а стоит ли бороться вообще, жертвовать в патриотическом порыве своей жизнью ради довольно мифического народного счастья?
В творчестве М. Горецкого граница между видимым и сущим тоже неопределенна и расплывчата: «Всякие бывают нищие… Может, то и не нищие, а нищими идут» («Потаенное», 1913). Более того, даже граница между жизнью и смертью какая-то несерьезная, будто условная, человек в некоем смысле может «жить» и после смерти. В рассказе «Похороны» (1913) крестьянка говорит об умершем муже: «Покрасивел немного, как помер, в свет выбрался». Конечно, в этой фразе, прежде всего, слышится приглушенный крик о страшной народной доле, когда человек хорошеет только в гробу. Но здесь тоже проступает смысл относительности всего совершающегося на земле, когда действует какая-то двойная небесная «бухгалтерия» жизни. Очевидно, что писатель исповедует идею неоднозначности, многообразия и изменчивости жизни, ее тайного движения, идею возможной познавательности ее сущности. Знать, что видимое и сущностное адекватны сами себе, а внутренняя связь между ними неизменна, было бы для ищущего ума невыносимо, так как обессилела бы его вера в созидательные потенции жизни.
В оппозиции светлого и темного внутренний портрет темноты какой-то своеобразный. В ней есть и положительная сущность, потому что она своя, родная. В этой темноте появляются и живут пускай и страшные духи, но это духи родной земли. Они тоже действенны в пространстве национального космологического сознания, так как «обостряют» душевную жизнь, а ощущение местным человеком их присутствия приобщает его к великим тайнам мироздания, наделяет его статусом жителя всей земли, соединяет свое и всеобщее. В одном из ранних рассказов М. Горецкого «Темный лес», получившем свое заглавие по наименованию конкретной местности вблизи родной деревни писателя, «темный лес» — это обиталище постоянно живущего здесь кого-то таинственного, мифического, пока неопознанного, но тем не менее чувствуемого, а потому реального: «Страшно там осенью темной, когда пуща стонет, а волки воют, а громко всхлипывает неизвестно кто, будто душат кого-то, будто кто-то знает что-то. Жуть большая в сердце поднимается». Здесь, возможно, только утонченное авторское, «интеллигентское» восприятие окружающего. Но в рассказе «Потаенное» тоже самое слышит в родной околице старая деревенская женщина. «Ходит что-то невидимое по земле, за гумнами, за людскими банями»,— говорит она. Что же это такое? Здесь запечатлена способность человека чувствовать дыхание родной земли, что для представителя простого люда отнюдь не мало. Именно на этом моменте его изначального мирочувствования укрепляется вера писателя в свой народ. Значит, местный человек, мужик, если он готов принять собственное воображение за легендарную реальность,— это уже духовный человек. Из массы таких людей и будет вырастать своя национальная интеллигенция. В статье «Рассуждения и мысли» (1914) М. Горецкий, прямо обращаясь к белорусской интеллигенции, выскажет¬ся еще более ясно: «Так вот же, вы — интеллигенты — будущее возрождения белорусов зависит от крестьянина, хотя, правда, кружок интеллигентов уже глубоко пустил у нас корни, но если крестьянин перестанет выделять из своей ха¬ты деятелей движения, так движение будет усыхать».
И хотя крестьянская хата может пока дать лишь первоначальный, элементарный проблеск духовности, надежда на лучшее будущее уже просвечивает. Отсюда, с этого минимального рубежа духовности, и начинается познание белорусской литературой собственного народа, которое, в свою очередь, должно помочь ему углубить процесс самопознания. В этом всегда заключалась великая роль и цель ли гчратуры в национальной жизни каждого народа.
М Горецкий, как и все белорусские писатели дореволюционного времени, не только в публицистике, но и в художественных произведениях ставит проблемы откровенно познавательного характера, решение которых направлено на осмысление тогдашнего морально-психологического и духовного облика белоруса, что часто сближает его художественное творчество с философской публицистикой. Эти проблемы — боль души писателя. В рассказе «Родные корни» (1913) он задается вопросом: «Что за народ наш, белорусы?» Ответы на подобные вопросы даются, как правило, с такой пронзительно-трагической проникновенностью, которая напоминает эмоционально-психологическую тональность произведений модернистского направления с их надрывно-мучительными мотивами. Но если у представителей модернизма мука — это нередко всего лишь стиль, холодное подчинение внешним канонам метода, то у белорусских писателей — сама живая жизнь со всей ее социальной опаленностью. В рассказе «Озимь» Владимер «судорожно обхватил голову и мучился», а в первых главах повести «Меланхолия» герой подумывает о самоубийстве. Это распространенный жизненный исход персонажей в творчестве писателей декадентской стилистики.
С. Дубевец в уже упоминавшейся статье эссеистского плана справедливо поставил имя белорусского писателя рядом с именами таких выдающихся литературных фигур мировой литературы, как Акутагава и Камю. Их эстетико-психопогический аналитизм, конечно же, возносит их на космополитические высоты экзистенциального видения человека в сложных и драматических перипетиях современного мира. Но, на наш взгляд, в своей аналогии С. Дубавец «недосмотрел» чего-то очень существенного в творческом облике белорусского писателя. Отличие М. Горецкого от названных критиком писателей в том, что, как бы высоко ни представлялся нам М. Горецкий, он не адекватен им хотя бы уже потому, что за ним всю жизнь тянется пуповина, связующая его с национальной почвой. И это уже в условиях Беларуси не провинциализм, не фактографическая приземленность, а тенденция поднять национальное до уровня общечеловеческого. Внутенние сближения творчества М. Горецкого с авангардными стилевыми осмыслениями полностью подчинены познанию национальной сути бытия. И мысль о самоубийстве у Лявона З. в повести «Меланхолия» возникает не только по причине неприятия жизни вообще (тот же Акутагава сам покончил жизнь самоубийством), а в результате разочарования в возможностях национальной интеллигенции быстро приблизить час освобождения народа от мучительного угнетения.
Мука героев писателя — это и мука его самого. Предмет мучительного переживания и болезненного раздумья один: кто мы, белорусы, сегодня и что будет с нами в будущем. Но ставятся эти вопросы с ощущением всемирного горизонта.
Почему же поиски ответов на эти вопросы мучительны в такой степени, что где-то подводят литературных героев к смертельной черте? Видимо, дело в нетерпеливости передового народного сознания, ощущаемого писателем. Объяснение в том, что другие народы шагнули далеко вперед по пути национального развития, а белорусский только недавно начал медленно втягиваться в процессы возрождения. Осознание исторической отсталости родного края в сочетании с очевидностью медленного его пробуждения как раз и порождает гнетущее душевное состоя¬ние на грани предсмертного надрыва. Это состояние углубляется еще и чувством народной беспомощности, предопределенным малочисленностью национально сознательной интеллигенции, готовой жертвенно служить народу.
В рассказе «Что оно?» (1913) жажда познания законов мироздания как непременное условие познания самого себя так велика и неуемна, что герой неразумно целится из ружья в луну. Он хочет знать, что там, за луной, и «из чего оно произошло". Интересы родины для него превыше всего. Он готов даже заложить нечистым силам душу — лишь бы счастливым стал белорусский народ: «Чаровники современные: Скажите, как бесам душу продать, чтобы только спросить что-то» «Что-то» — это важнейшие истины национального бытия, «правда жизненная».
В исторические периоды борьбы за политическую независимость страны для литературы, каждого народа характерен накал чувства любви к отечеству, побуждающий преступить нравственный поведенческий закон. «Бесам душу продать» означает готовость пойти на преступление. У Т. Шевченко:
Я так її я так люблю
Мою Україну убогу,
Што прокляну святого Бога,
За нею дуилу погублю.
Конечно же, эта готовность пойти на преступление ради торжества нацио¬нальной идеи в литературе чисто условная, риторическая, практического осуществления не предусматривающая, так как сами истоки национально-освободительного движения имеют очевидный демократический, гуманистический и глубоко нравственный импульс: борьбу за равноправие и свободу угнетенных сограждан. Поэтому и средства достижения цели должны быть высоконравственными. Тем не менее, содержание мотива показательно; если рассчитывать на победу, то любовь к отчизне может быть только деятельной и всепоглощающей.
Именно большая любовь к угнетенной, терзаемой родине и призвана подсказать правильные и нравственно приемлемые пути достижения цели. Прежде всего, вредным для дела оказывается длительное состояние тоски и отчаяния. Так, чрезмерная сосредоточенность на собственной и народной бедности препятствует созидательному труду. Такова идея рассказа «Скрипочка» (1913). И еще необходимо реальное чувство жизни, без которого человек будет делать неизбежные ошибки и в результате не сможет улучшить не только народную долю, но и собственную судьбу (рассказ «Страшилище», 1913). Недаром тот же мучимый тоской Владимер из рассказа «Озимь» спохватывается и намечает деятельные планы: «Я буду жить, я буду работать и бороться. Мне стыдно за всю мою давнишнюю тоску и хныканье. Я было оторвался от людей и жизни. Но все, то в прошлом, и я опять живу, и буду жить. Мы еще повоюем, и дело наше не погибнет, не радуйтесь, враги, раньше времени!»
В рассказе «Родные корни» дед Евхим дает молодому человеку, стремящемуся к образованию и культуре и озабоченному судьбой родной Беларуси, целую нравственную программу, как себя вести, чтобы не потерять цели: познать через книги прошлое народа, не терять с ним связей сегодня, быть отзывчивым — думать о бедных и обездоленных, не отступать от твердых принципов: «...Читай, голубчик, в книжках, да и умных людей спрашивай, как жили в старину наши здешние люди... Выполнишь этот приказ — в жизни не ошибешься, будешь знать, что делать необходимо... А второе: почаще в родное гнездышко залетай... А еще добавлю: не забывай ты в городе... спросить себя: «А может, сейчас у кого-то корки хлеба нет?..» Помни, чтобы другого освобождать, необходимо самому крепким быть, в силе не падать, а то и самого затопчут...» Но это ведь и программа самого М. Горецкого!
А что же там, в «родном гнездышке»? Мало утешительного видит он, вышедший из народа интеллигент, в родной стороне. Угнетенность, необразованность, темнота, низкий уровень морали и быта, и как следствие — искаженное восприятие и понимание жизни. Как же можно тогда верить в быстрое духовное возрождение такого народа? Оказывается, можно.
М. Горецкий, как и другие белорусские писатели той поры, видел, что класс богатеев виновен в народных бедствиях. Виновным был и сам государственный строй, допускающий разительное социальное неравенство. Герой раннего рассказа «Стоны души» (1913) остро переживает «глумление жизни», хочет как-то изменить условия народного существования, чтобы не было «господ» и «мужиков». Его душа кричит: «Нельзя! Нельзя! Так не должно быть и не может быть!» Неуемный социальный эгоизм господ показывается в рассказе «Панская сучечка» (1918). Позже, в зарисовках «Красные розы» (1922) писатель выведет образ пана Невельского, который понимает, что для его сословия «время расплаты наступило». Но уже поздно. Революция идет полным ходом. А пока Архип Линкевич в рассказе «Родные корни» мечтает: «Эх! Найти бы и силу свою на весь мир показать, прогнать обидчиков, вытурить их от людей бедных».
Но еще хуже, пожалуй, что крестьянин боится господ, так как в его душе веками складывалось чувство покорности, которое начало граничить с психопатологией, подрывало у него естественную волю к жизни. Писатель полностью осознает это. В рассказе «Войт» (1913) даже панский прислужник, когда он привез крестьянину Юрке из господского двора приглашение для его дочери прибыть туда «петь и танцевать», поражен безотказностью Юрки. И ему было «немного смеш¬но, немного гадко, что Юрка не перечит, а так легко соглашается и потворствует: «Хорошо, паночек, хорошо...»
Мужик относился к господам с безрассудной покорностью, а к своему брату- мужику, если это было выгодно материально, при кротких добродушных словах — полное равнодушие. Хуже того, крестьянин способен на измену своей социальной среде и крестьянским интересам. В рассказе «Глупая голова» (1922) крестьянин Трофим за 30 копеек в день берется усмирить крестьян в их конфликте с паном. Число 30 здесь, видимо, не случайно, оно ассоциируется с 30 библейскими сребрениками Иуды, предавшего Христа.
Неприятие социального неравенства в творчестве М. Горецкого диктуется не только сочувствием нищим и обездоленным, но и пониманием, что «глумление жизни» является величайшим препятствием на пути национального освобожде¬ния. Владимер из рассказа «Озимь» вынашивает в душе очень радикальные, просто-таки революционные надежды: «Ах, если бы имел силы над панами. В порох, в пыль!»
И у этого героя отношение к привилегированной прослойке богатеев имеет ясную национальную направленность. Именно он признается, что жизни не пожалел бы ради того, «чтобы знать, что будет через 50 лет с белорусским делом...» В этом высказывании — позиция и самого писателя. Он убежден, что белорусские социальные верхи давно уже не являются той силой, которая могла бы поддержать национально-освободительное движение. Для этого они слишком эгоистичны в своих социальных стремлениях. Они привыкли брать, а не давать. Ситуация порождала классовую вражду. А национально-освободительная борьба, если она надеется на успех, требует единства всех слоев населения, всего народа, Но белорусские господа, самый образованный и культурный слой общества, давно уже не чувствовали и не считали себя частью собственного народа. В этом была величайшая историческая драма Беларуси. Спасение было в одном: опора на просвещение широких народных масс и на деятельность молодой национальной интеллигенции, которая выходила из народа и, получив знания, должна была вернуться в народ, чтобы нести ему настоящее понимание мира. Вот почему нет, пожалуй, в мире другой такой литературы, как белорусская, которая бы так пристально, жадно, целенаправленно и требовательно всматривалась в облик простого человека, особенно крестьянина. Именно он должен был стать человеком нации, а его внутренний мир — источником духовной энергии нации.
Интересно, что М. Горецкий, хотя и придает большое значение классовым отношениям в связи с решением национального вопроса, не считает их главными и всеопределяющими. В рассказе «Озимь» есть такое высказывание: «Люди копошатся... Не все ли равно, кто там душит кого! Я выше смотрю! Жизнь». Здесь, кажется, нашел отражение — еще в зачаточной форме — важнейший принцип философского понимания мира М. Горецким, в том числе национальной проблемы — принцип, который позже будет развит до уровня стройной системы взглядов, охватывающей как политическую концепцию, так и эстетическую ориентацию писателя.
Несомненно, М. Горецкий предчувствовал революционный исход существующих классовых противоречий и сочувствовал ему, но все же считал цели национально-освободительного движения выше и шире решения классового спора. Опорным смысловым словом в вышеприведенном высказывании является слово «Жизнь». Ход и развитие жизни, по мнению писателя, подскажет путь к достижению всенародной цели. М. Горецкий понимал, что социальная революция — это вожделенная мечта только части общества. Всеобщего масштаба радикальных перемен в условиях Беларуси он ожидал от национально-освободительных завоеваний. Учитывал писатель и антигуманистические последствия социальной революции. Даже гораздо позже, уже при советской власти, в статье «Белорусская литература после «Нашай нівы» (Общее обозрение, 1928) он осмеливался называть революцию наряду с войной «большой катастрофой».
В рассказе «Рассветы» («Досвіткі», 1921) М. Горецкий очень убедительно с художественной точки зрения проводит идею, что протест одиночек против угнетения обессмысливается, так как для того, чтобы коренным образом что-то изменилось в жизни людей, должна «вызреть» сама жизнь. Поэтому вряд ли писатель до 1917 года возлагал какие-то серьезные надежды, кроме чисто эмоционального влечения при виде фактов социальной несправедливости, на революционное решение народной судьбы. Работа времени и естественное движение жизни — вот что при всей нетерпимой медлительности процесса должно принести ожидаемые плоды. В этом убеждении — первоначальный исток жизненного девиза героев М. Горецкого, интеллигентов, вышедших из народа: «работать и учиться» (рассказ «В чем его обида», 1914), «ковать долю» («Озимь»), «пришло великое время, и большой работы ожидает страна» («Габриелевы присады», 1918). Писатель радуется, что белорусская жизнь уже рождает людей гордых, крепких душой, высоконравственных и талантливых, в которых остро нуждается родной край («Страшная песня музыканта», 1921), Пожалуй, не только М. Горецкий, а все белорусские писатели «нашенивской» поры отдавали предпочтение национальному просветительству и культурной работе перед революционными концепциями переустройства существующей действительности. Они в то время могли одобрить безоговорочно только революцию национальную, которая в случае победы могла и должна была улучшить и социальное положение народа. И в таком концептуальном самоопределении М. Горецкий был, конечно же, не одинок. З. Бядуля звал «вместе с жизнью к жизни». И у него слово «жизнь» является коренным и концептуально смыслообразующим. Прогресс должен идти согласно уже выявившимся тенденциям народного бытия, а не вопреки им. Жизнь необходимо принимать такой, какая она есть, и, исходя из этого принципа, строить все активные и полезные начинания.
Да, народная жизнь страшна, но не безысходна. Бедность, бескультурье на каждом шагу. Вселенская злоба и зависть друг к другу не дают возможности людям объединиться и действовать заодно. В рассказах «Томаши» (1920), «Злоба» (1920) — неприглядный деревенский быт, некрасивые внутренне люди. Панас ходит играть в карты, потому что дома ссоры, непонимание, подозрительность, нарочитая хитрость. Но в подтексте этих произведений присутствует очень важная мысль: это наш национальный быт, это наши родные люди. И больше неоткуда ухватить искорку надежды, как только отсюда — из этого быта, от этих людей. И вот играется свадьба — и как мгновенно преображаются люди! В рассказе «Зима» (1917) дается срез многих слоев крестьянской жизни. Свадьба — как вспышка на¬родной силы, ума, высокой морали, целомудрия. Значит, можно верить в этот народ. Идея рассказа «Томаши» — все плохое в крестьянине наносное, внешнее, прилипчивое, а в его сердце теплится доброта и сочувствие. Рассказ «Зима» имеет аллегорическую концовку; «Так тихонько, даже исподволь начинается зимний будний день». А это значит: так тихонько, исподволь, не спеша, по представлениям писателя, идет Беларусь навстречу своему светлому будущему.
Этот путь, безусловно, долог. И чтобы хоть немного сократить его собственными усилиями, М. Горецкий беспощаден в своем художественно-публицистическом анализе белорусской национальной жизни. В его произведениях выведено много образов народных, национально сознательных интеллигентов со светлыми задатками души. Но и эта категория героев, казалось бы, заслуживающая всяческой поддержки, уважения и даже восхищения, подвергается пристально-безжалостному рассмотрению на предмет их духовных возможностей. В том же рассказе «Зима» в насмешливом плане показан учитель Лексей Лексеевич, который задумал ни много ни мало, как создать «национальную литературу», но его произведения беспомощны. (Кстати, этот тип национального интеллигента не вывелся до наших дней.) А в сценках с натуры «Гапон и Любочка» (1914) белорусская интеллигенция вообще выглядит малообразованной, эгоистичной, расчетливой, нравственно не воспитанной. Позже писателю, как он вспоминает, довелось побывать в Белорусском клубе в Вильно, где собиралась белорусская интеллигенция, но его ожидало полное разочарование.
Но где же тогда луч надежды? Он есть. Оказывается, тот же Лексей Лексеевич способен на критическое отношение к самому себе, а это, считает писатель, уже не так и мало. Естественная стихия народной жизни захватит судьбу и таких людей для пользы укрепления национальной духовной почвы. В таком важном деле и кроха в счет.
Все чаще и чаще в творчестве М. Горецкого появляются призывы и утверждения, даже лозунги с предложением: «Жить!», «Жизнь прекрасна!» В драматической миниатюре «Камнетес» (1922) показаны все неурядицы и беды жизни простого человека, живущего благодаря силе своих рук. Недостатки, болезнь, тяжелый труд. Но есть и радости жизни. Сам камнетес говорит: «Все-таки хорошо жить на свете».
Все более обширными и проникновенными становятся картины, поэтизирующие природу и быт родного края. И не только у одного М. Горецкого. Как раз в это время Якуб Колас начинает создавать поэму «Новая земля», где поэтизация крестьянского (белорусского) образа и стиля жизни достигла триумфального художественного воплощения.
Какой же общенациональный смысл кроется в этой все усиливающейся внутренней тенденции, захватившей всю белорусскую литературу на длительное время? Как понять этот акафист жизни при одновременном проклятии за существующую в ней социальную несправедливость? Об открытом идейном смысле много говорилось и писалось: любовь к родному краю, возвышение его поэтического облика до уровня, достигнутого развитыми литературами мира, и т. п. Все так. И все же есть, как это сегодня можно почувствовать и осознать, в тенденции, интуитивно или продуманно предложенной М. Горецким, какая-то более скрытая, но, как нам кажется, несомненно, реально допустимая идея — идея политическая. Как? — можно воскликнуть в недоумении.— В пейзаже обнаруживается политика? Именно так, смеем утверждать. В пейзажных зарисовках, в любовании родным краем пробивается антиреволюционное мировоззренческое настроение.
Каким образом и в каком смысле? Максим Горецкий, Янка Купала, Якуб Колас, Змитрок Бядуля, Максим Богданович, Алесь Гарун не были объединены ор¬ганизационно в какую-то одну политическую группу или партию, если не считать объединяющей роли газеты «Наша шва», тем не менее их идейно-эстетические и политические взгляды обладают удивительным единством, вплоть до разительного сходства образов и мотивов, а также совпадения концептуальных мыслей. В этом их избранность как талантливых, искренних и преданных сынов своего народа. Их внутренний мир волей переживаемого исторического момента был настроен на улавливание духа родной земли, когда уже начало вызревать довольно широкое сознание национальной свободы и независимости. Они сами и были будителями этого сознания и поэтому дорожили той степенью, пусть еще незначительной, просвещенности этого сознания, которая уже достигнута. Будучи людьми довольно образованными и интуитивно остро воспринимающими реальность жизни, они чувствовали и понимали, что социальная революция может радикально перевернуть жизнь, а в результате трудно будет сохранить уже завоеванное на пути национально-освободительного движения и национально-культурной работы. Недаром все белорусские писатели начала XX века с энтузиазмом приняли февральскую революцию и настороженно, с длительным недоверием — октябрьскую.
Поэтому они и воспринимали существующий уклад и стиль народного быта при всех его кошмарных изъянах как свою «духовную территорию», которая владеет реальной возможностью, пускай и не скоро осуществимой, наполнить духовной энергией процесс развития национальной идеи вплоть до ее практического воплощения. Отсюда призывы и внушения в творчестве М. Горецкого: «Жить!» Идея почти всех произведений белорусских писателей начала XX века заключается в том, что народная жизнь, при всех ее внешних извращениях, прекрасна и способна порождать — национальную — духовность. Якуб Колас в поэмах «Новая земля» и «Сымон-музыкант», в трилогии «На росстанях» со всей конкретно-бытовой очевидностью и исторически-смысловой убедительностью раскрыл сущность этого процесса, показал, как все происходит, на примерах конкретных человеческих судеб, прежде всего — на примере собственной жизни.
В творчестве М, Горецкого философия национальной жизни, пожалуй, наиболее сосредоточенно и глубоко, через конкретно-сюжетные смысловые ходы, раскрыта в произведении дореволюционного времени — в драме «Антон. Картины жизни» (1914). Собственно, содержание драмы — это целостная модель существования белорусского народа, какой она виделась писателю в момент ее написания.
Но «Антон» — это еще и произведение-предупреждение, произведение-наказ. В драме изображен патриархальный характер — Автух, пьяница и добровольный прислужник господского двора, служащий лесником и учиняющий с сыном Антоном вечные свары по незначительным бытовым причинам, но и на предмет, как жить вообще. Однако главное — в произведении есть образ Антона, молодого деревенского жителя, «выламывающегося» из патриархальной крестьянской среды, ищущего истину жизни, стремящегося жить по справедливости и божьим законам, призывающего других идти по открытому им пути. Казалось бы, здесь раскрыта типичная для всей белорусской литературы начала XX века коллизия: противостояние добра и зла, положительного и отрицательного героя. По внешним исходным приметам это на самом деле так. Но в итоге все оказывается наоборот. Обнаруживается, что Автух не такой уж плохой человек. У него есть изъяны, но таким его сделала жизнь. А вот Антон, стремясь жить по божьему учению, становится воплощением исчадия ада, превращается в убийцу собственного сына и себя самого.
Детективная метаморфоза? Нет. Логическое развитие жизни, но жизни специфической — белорусской. Дело в том, что Автух в рамках сложившихся обстоятельств действует как типичный средний белорусский крестьянин. На его месте то же самое делал бы всякий другой человек, принадлежащий к той же среде: выпивал бы за счет крестьян, надеющихся на какие-то послабления с его стороны в господском лесу, доносил бы на самых ретивых и упрямых помещику и т. д. Но изменились бы конкретные обстоятельства — скорее всего, изменился бы и он сам. Ситуация в нравственном отношении не безнадежная. Безнадежен как раз Антон. Почему?
Безусловно, в определенном понимании Антон — передовой крестьянин, даже больше того — передовой человек своего времени. Ведь он способен задумываться философскими проблемами жизни, ищет ответа на вопрос, как жить по правде, и главное — сам стремится жить совестливо, как учит религия. Однако трагедия Антона в том, что его философское искательство абстрактно, оно не связано с реальными условиями существования людей и его самого. Его нровственные идеи и принципы — пускай самые хорошие и правильные — исходят не от него самого, они зародились и возникли не в результате работы его собственной души, а заимствованы готовыми из внешнего мира и поэтому имеют догматическую суть. Автух говорит сыну: «А-а-а ты, богомолье глупое! Опять кого-то наслушался».
Идеи и принципы Антона не вырастают из жизни, а накладываются на нее, нас готовая мерка, как холодный трафарет. Несовпадение абстрактного идеала и реальной жизни такое разительное, что Антону сама жизнь начинает казаться вечной темницей, сущим адом. Его пугает реальность, где на каждом шагу нарушаются божьи заповеди. Он — субъективный революционер максималист, уверовавший в немедленное преобразование жизни согласно усвоенному идеалу. Но бороться за эти идеалы он не хочет и не может. Он действует при помощи собственного примера, не выходит за рамки бытового деревенского уровня и часто попадает в нелепые положения. Измучившемуся душой Антону начинает казаться, что жизнь припасла его сыну одни страдания и поэтому он считает, что в таком случае лучше не жить ни сыну, ни ему самому. Антон из тех, о ком в народе говорят: «Заставь глупого молиться, он и лоб расшибет». Но не только народная мудрость восстает против жизненной позиции Антона. Библия, законам которой он следует,— тоже. Как известно, в библейской легенде об Аврааме, который собирался принести в жертву сына Исаака во славу Бога, рука Авраама была остановлена Ангелом, посланником Бога, запретившим жертву. Идея этой истории заключается, видимо, в том, что верность Божьим заветам имеет свои пределы, она не должна доходить до границы, когда утрачивается здравый смысл, И еще: неискушенному Антону пока не понять, что именно лучшими намерениями вымощена дорога в ад, Понятно, что М. Горецкий сознательно дискредитирует жизненную позицию своего героя. Он убежден, что мировосприятие, свойственное Антону, ведет к краху не только индивидуальную человеческую судьбу, но и судьбу всего народа. Лозунг писателя — «жить!», «к жизни!» Не случайно именно в тот момент, когда Антон собирается совершить преступление, идет веселое праздничное деревенское гуляние, в котором содержится так много народной нравственной красоты и общечеловеческого смысла. Естественная жизнь торжествует и должна торжествовать. Поэтому только здесь, в здоровой народной среде — источник трезвых жизненных идей и правильного, созидательного мирочувствования. Только в таком случае мирочувствование и идейность будут своими, родными, а следовательно — живучими, исторически перспективными.
В драме «Антон» М. Горецкий прямо переносит эти вроде бытовые: представления в область национальной политики и национальной эстетики. Они, конечно же, и в обычном, бытовом понимании несли в себе философское содержание, легко приложимое к литературным проблемам и. политической жизни Беларуси начала века. Но писателю этого мало. Он воссоздает острые ситуации открытого спора и полемики, вводит в сюжет «философские» фигуры «польского публициста», «московского демократа», «белорусского автора» и «доктора». Они ведут споры о самых актуальных культурных и политических интересах белорусского края.
В сущности обсуждается та же проблема естественного и объективного смысла в развитии национальной жизни, только теперь уже применительно к культуре и литературе. Судьба Антона и дает пищу для спора и дискуссии интеллектуалам разных национальностей.
Неожиданность положения заключается в том, что «польский публицист), и «московский демократ» дают белорусской литературе небезосновательные и даже очень благожелательные, лестные для нее советы. Они призывают ее создать образ нового человека-белоруса, способного вместить в себе лучшее нравственное самочувствие народа, от которого исходила бы светозарность духа, выявляющая лучшие внутренние достоинства нации. Одним словом, они советуют создать образ-идеал, который мог бы стать духовным и идейным знаменем для всех белорусов. «Белорусский автор» (обобщенный образ передовых литературных си.! Беларуси с их пониманием актуальных национальных задач, к коим несомненно относится и сам М. Горецкий) резонно оспаривал подобные предложения все на том же основании: нельзя подстегивать жизнь, предписывать ей загодя, куда идти Ее естественное развитие самодостаточно. Идеал искусственным, абстрактно- рациональным способом не создается. В нем., в идеале, должна жить духовная энергия местной действительности. На призыв «московского демократа», который говорит, что «литература ваша, белорусская, не медля должна выявить белорусам нового человека», и «польского публициста» («создайте нового человека!») «белорусский автор» отвечает: «Жизнь даст ответ...» Потому что, если такой тип взять как готовую конструкцию, перед ним всегда будет маячить тень судьбы Антона — убийцы собственного будущего.
«Белорусский автор» уверен, что дух народа обязан вызреть для великих исторических дел, Его возражения очень убедительны: «В мировой литературе произведения, в которых показываются одному какому-нибудь обществу новые пути жизни, новые задания, такие произведения больше, чем другие, преждевременны и вскоре забываются новыми поколениями».
Белорусское литературоведение (О. Лойко, М. Кенько) заметило уже, что идейно-эстетический предмет спора в пьесе «Антон» широко перекликается с дискуссией 1913 года в газете «Наша нiва» о всеобщем внутреннем направлении в развитии национальной литературы, прежде всего — поэзии, начатой статьей Ю. Верещаки «Возвращайте долг» и продолженной статьей «Почему плачет наша песня?», подписанной «Один из парнасников» и приписываемой Янке Купале. Если «один из парнасников» обосновывал частое наличие грустных мотивов в белорусской поэзии трудными условиями жизни народа, то Ю. Верещака считал, что время эмоционального и идейного однообразия белорусской поэзии с ее устойчивыми нотами печали, обиды и жалобы прошло, что пора романтизировать и идеализировать образы национальной литературы, заставить ее как бы подтягивать за собой реальную жизнь. Одним словом, должен был появиться образ-пример, воспитывающий белорусов лучшими качествами своей души.
Не трудно заметить, что мысли Ю. Верещаки в основном тождественны убеждениям «польского публициста» и «московского демократа» из драмы «Антон». И хотя сегодня, очевидно, что белорусская литература в то время, когда велась дискуссия и когда создавалась драма, уже шла и одним и другим путем, так как оба они были для нее на том этапе жизнесодержательными — ведь центральной фигурой в творчестве самого М, Горецкого был положительный образ национально сознательного интеллигента,— тем не менее очень интересны идейноэстетические предпочтения писателя. Предоставив широкие возможности своим персонажам-оппонентам «польскому публицисту» и «московскому демократу» высказаться, М. Горецкий устами «белорусского автора» все же поддерживает в дискуссии «одного из парнасников», «А пускай плачем,— говорит «белорусский автор»,— опеваем недолю — ищем хороших заданий... Нельзя же сразу создать себе идеал...» И дальше: «Да и певцы тоски, скорби часто добивались своими песнями совершенно противоположного». Одно уже то, что М. Горецкий сближает позицию Ю. Верещаки в дискуссии с позицией своих персонажей из драмы «Антон» — персонажей ненационального происхождения — имеет свой выразительный смысл. Писатель крепко верил в созидательные силы самой жизни, в пробуждающуюся энергию народного духа. Он радовался, что национальная жизнь все-таки развивается, идет в гору. «Белорусский автор» говорит: «О, как прорвет! Пускай дозреет... История не ошибается... Мы теперь под горкою, а лучшие наши вон куда на горку взобрались, а со временем все на горе будем...»
Но не означало ли это фаталистического смирения с существующей действительностью, не проглядывает ли здесь позиция полного невмешательства в ход вещей? Нет. Драма «Антон» заканчивается все тем же постоянным для писателя призывом: «жить!» А «жить» означает активно действовать, но в границах, очерченных самой жизнью.
Нельзя не обратить внимания, что в драме «Антон», как и во многих других произведениях М. Горецкого, обоснована концепция национальной жизни вопреки распространенному уже тогда радикально-революционному убеждению о возможности и желательности мгновенного изменения социальной действительности, об устройстве жизни по правде, в том числе и вопреки идеологии будущей октябрьской революции. Если преданность Антона религиозным моральным предписаниям сменить на приверженность прямолинейным социальным мечтаниям, логика судьбы Антона, пожалуй, не изменится. Как ее завершение видится только крах. М. Горецкий отдавал явное предпочтение революции национальной, которая должна была улучшить и социальное положение трудового народа.
Концептуальное содержание драмы «Антон», как и всего творчества М. Горецкого дореволюционной поры, со всей философской системой представлений о человеке и обществе не могло найти логического продолжения и развития в идейной атмосфере советского времени, когда мысль о революционном пути разрешения общественных проблем считалась непоколебимой, предусматривающей вечное существование эксплуататорских классов.
Но как тогда объяснить, что М. Горецкий после октябрьской революции поддержал ее идейные ориентиры и оказался в числе служащих советских учреждений? Известно, он сотрудничал в газете «Известия Смоленского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», работал в газете «Звязда» вместе с видным большевистским деятелем Беларуси В. Кнориным. В 1927 году писатель произнес приветственное слово XI съезду Коммунистической партии Беларуси от имени ученых Горецкой сельскохозяйственной академии. Искренне и вдохновенно участвовал в литературной и культурной жизни БССР после переезда из Вильно. Думается, противоречия в личностной и творческой биографии писателя здесь нет. М. Горецкий оказался и на этом повороте судьбы верным принципу, который он исповедозал и раньше — идти за жизнью, за ее велениями. Он увидел, что значительная часть населения России и Беларуси с симпатией присматривается к большевикам, и принял это как историческую данность. К тому же, в теоретических декларациях большевистской партии содержалось немало привлекательных для преданного национальной идее культурного деятеля положений и установок. Недаром М. Горецкий переехал из Вильно в Советскую Беларусь, надеясь, что только здесь он найдет настоящее применение своим творческим силам, согласованным, как всегда, с целью строительства национального духовного дома. Еще раньше, в 1918 году, он, увлеченный революционной эйфорией, писал: «Светоч социального учения зажегся и ярко горит на востоке.
И в нем мое утешение.
При нем нет ни эллина, ни иудея. Всем одинаково светит и греет он» («Будем жить!»).
Прямых и косвенных объяснений писателя относительно его причастности к советской власти немало. И они не только любопытны. В них трагедия человека, народа, времени. Так, в драматическом отрывке «Мутерко» (1920) один из персонажей говорит: «Нет, если уж выбирать, то лучше соглашусь на коммунистов. По крайней мере, свои люди. А кто знает? — выветрится жестокость коммунистических порядков, даст бог, примут они такие формы, что можно будет вытерпеть. А если так, то чем я очень уж отдаляюсь от коммунистов?» Эти слова в рассказе говорит отрицательный тип, демагог. Но очевидно, что подобным образом думали многие честные белорусские интеллигенты, в том числе и М. Горецкий. И не измени большевистская партия многих своих политических установок в сторону упрощения и беспримерной жестокости, возможно, так бы оно и было.
М. Горецкий, по всеобщему признанию, был человеком удивительной сердечной искренности, а также душевной открытости и честности, как нравственной, так и идейной. Принимая в той или иной мере распространенные в советское время политизированные представления, например, относительно пролетаризации литературы («только пролетарская литература является теперь революционным фактором»), относя национально-возрожденческое мировоззрение к пройденному этапу культурно-политической жизни Беларуси, иногда называя его, как это было принято тогда, «идеалистическим», писатель тем не менее был убежденным противником нигилистических попыток отлучить от современности культурное наследие прошлого. Он настаивал на безусловной преемственности дореволюционного возрожденческого духовного потенциала и политики белорусизации и развития национальной культуры в советское время. Об этом свидетельствует даже формулировка темы его доклада на конференции по реформе белорусского правописания и азбуки в 1926 году — «Национальный возрожденизм и послеоктябрьский период» (позже заглавие доклада изменилось — «Нашенивский период в белорусской литературе»).
В ответ на критику своего доклада М. Горецкий с предельной ясностью заметил: «Я сказал то, что считал необходимым сказать, чтобы понять национал-возрожденизм и его связь с послеоктябрьским периодом». Доклад М. Горецкого был, в сущности, защитой нашенивской идеологии от уже прозрачно вырисовывавшегося враждебного наступления на национальную культуру прошлого, оцениваемую как сплошь буржуазную, а поэтому бесполезную. Он пишет о том, что художественному творчеству нашенивского периода была свойственна идеализация крестьянского труда, в чем сам был «грешен». Но это не столько осуждение, сколько констатация. Он верил, что именно крестьянское мировоззрение белорусов, составляющее нравственно-духовную основу национальной литературы, с течением времени даст оригинальную заявку на ее всемирное признание: «А я то и скажу, что и среди крестьян (белорусов) много грамотных людей, как и среди «интеллигентов», но соха и коса да близость к таинственной жизни природы и с детства выработанный аристократический взгляд на нехватку корки хлеба у крестьянина и делают то, что литература такого простого народа и будет иметь при хороших условиях значение мировое, да!» И еще: «Чем более я знакомлюсь, как мне кажется, с душой белорусской, тем с большей определенностью настаиваю я на том, что белорусской литературе суждено сказать много нового в области духа..,) («Рассуждения и мысли»).
Если до революции М. Горецкий настойчиво исповедовал принцип естественного движения жизни, призывал не опережать это движение, то позже, после Октября, ему иногда начинало казаться, что жизнь, пронизанная импульсами революционных перемен, обгоняет сознательный отклик людей, в том числе писателей, на эти перемены. Но, пожалуй, и после революции у него приоритетным остается убеждение, что естественная жизнь все же неоспорима как в теории, так и в практике осуществления ее предначертаний.
Был еще один несомненный момент, повлиявший на жизненный выбор писателя. Это довольно ощутимое по многим приметам разочарование в практических возможностях национально-освободительного движения, которое так и не смогло добитося в сравнительно благоприятных для него исторических условиях 1917—20 годов серьезных результатов, Чувствовал он и отчетливо выявленную частичную несостоятельность слишком твердых упований на текущую жизненную обоснованность медленно-эволюционных процессов, ведущих к национальному освобождению. После революции 1917 года М. Горецкий несколько пересматривает некоторые свои принципиально важные для него по идейным соображениям произведения, где воплощены были, как показала последующая жизнь, и отдельные слишком наивно-призрачные предположения о будущем возрастании силы народного духа, направленном на пробуждение национального чувства. Теория маленьких постепенных шагов не совсем оправдала себя. Большевизм своей радикальной политиком вообще снял эту проблему с повестки общественной и политической жизни. Оказалось, что история XX века способна шагать крупномасштабными шагами, изрядно потеснив авторитет эволюционных методов изменения общества. Видимо, в связи с этим обстоятельством М. Горецкий начинает перерабатывать некоторые дореволюционные рассказы в повести «Меланхолия» (1916— 1928) и «Тихое течение» (1917—1930).
Нет, писатель не отказался окончательно от главенствующих идей своей прежней системы убеждений и взглядов на жизнь. Они остаются в важнейших чертах в неприкосновенности хотя бы потому, что, возникнув в дореволюционные годы, они сохраняются как бесспорные исторические свидетельства эпохи. Но и помимо этих соображений они дороги писателю, так как он убежден: какие бы повороты ни совершала жизнь, основополагающие ее начала никогда не утрачивают своей ценностной значимости, Есть категория вечных законов жизни, пренебрегать которыми при любых обстоятельствах не рекомендуется никому.
В повестях «В чем его обида» (1925—1926), «Меланхолия» и «Тихое течение» художественно утверждаются в основном те же истины национального сознания, которые были открыты М, Горецким в дореволюционное время. Остается в общих чертах неизменной и прежняя поведенческая программа белорусского интеллигента — деятеля национально-освободительного движения. Вот какие мысли в повести «Меланхолия» сопровождают Лявона З., едущего по железной дороге: «Буду себе ехать потихоньку и спокойно, буду любоваться своим бедным родным краем и буду беспредельно лелеять мысли о его возрождении...» В такой момент у героя возникает чувство любви к жизни вообще как принцип мироощущения: «Почувствовал, что крепко любит жизнь». И как клятва: «Страна моя родная! Мы, твои верные сыновья, еще перестроим тебя! Не будешь ты такая грустная и убогая!»
Повесть «Тихое течение» — это жизненная история простого деревенского паренька с несчастливой долей — такого же, как тысячи и тысячи других. В детстве его, маленького, оставляют дома без присмотра со всеми вытекающими отсюда последствиями, «Это — герой нашей истории, Хомка... А пфе! Неинтересное дитя — герой наш. Весь в соплях и немытька, и худой, а живот — как тот бубен: так выпнулся у ребенка от пушного хлеба и картошки». И тем не менее он действительно герой, так как именно такие дети — и никакие другие — надежда и будущее Беларуси.
Хомка плохо учится, да и школа какая-то неказистая, до смешного низкого уровня. Но и та наука, даваемая подобной школой, в этом крае нужна. Хомка, как водится в бедных крестьянских семьях, становится батраком, но все заработанные им деньги отец забирает себе, никогда и ничего не покупая сыну. Герой плачет от обиды на отца-пьяницу, пропивающего заработанное не им. Хомку-бедолагу убивают на войне, Но именно такие люди, как Хомка,— искренние, честные, работящие — составляют белорусский народ. Ему тоже встречалась радость в жизни. Он вспоминает, как бороновал ниву, сидел, хотя и на чужом, вспаханном поле, но был тогда счастливым, удовлетворенным жизнью — жизнью пахаря, потому что в назначении пахаря — правда жизни вообще.
«Тихое течение» — образ тихого, медленного течения народной жизни, которое вызывает у писателя меланхолию и отчаяние, но в этом течении есть все же живые и стремительные струи, вселяющие надежду. В повестях, однако, больше этой самой меланхолии, чем в рассказах дореволюционной поры, глубже разочарование в «тихом течении». «Какая-то непонятная сонная тревога сжимает сердце и нет силы выздороветь» («Тихое течение»). Или: «Вот ничего не сбылось, не показалось, и все останется как было сотни лет. Заваленные кресты, изрытые свиньями могилы» («Меланхолия»), Усиливается неопределенность душевного состоя¬ния и неуверенность: «Зачем жить, чего ожидать, что искать?» («Меланхолия»).
Писатель видит, что на благородной ниве национальной деятельности появляются ложные пророки. А тот, где-то существующий, настоящий, давно ожидаемый пророк-спаситель слишком долго не появляется. «Кто-то запаздывает веками и не приходит» («Тихое течение»). Но в этих открытых нареканиях есть и подспудное смирение, так как, по мнению писателя, другие пути, видимо, еще менее надежны. В этом видится трагедия народа.
Действительно, трудно найти в белорусской литературе другого такого писателя, как М. Горецкий, в творчестве которого жесткий анализ нетребовательного и запущенного народного быта так тесно уживался бы с откровенно умилительным отношением к нему, где бы пафосное осуждение несло в себе и печать вынужденного смирения. И Янка Купала и Якуб Колас, пожалуй, более категоричны.
Философский принцип понимания жизнедеятельности белорусского интеллигента, выработанный М. Горецким в дореволюционное время и подтвержденный им в первые годы советской власти, приобретал смысл предостережения для тех, кто считал, что после октябрьской революции получил, будто бы узаконенное народом право разрушить старый мир, чтобы на его обломках построить новый. Писатель считал, что обновление жизни должно произойти, но в процессе ее общего роста, а не на путях разрушения ее основ.
Подтверждение этому своему убеждению М. Горецкий ищет также в истории народной жизни. Творческим результатом поисков именно в таком направлении явились романы «Комаровская хроника» и «Виленские коммунары» (1931—1932). История народной психологии, народного быта — это тоже духовное богатство родного края. Содержание этих произведений самым непосредственным образом связано с животрепещущими и злободневными раздумьями писателя. И напрасно С. Дубавец в упоминавшейся статье в «азарте разочарования» не пожелал заметить идейной значимости «Виленских коммунаров». Почему-то критику показалось, что в романе «политики оказалось совсем мало, особенно в сравнении с кулинарной частью». Это звучит как ирония, но вряд ли в данном случае стоило иронизировать — ведь М. Горецкий описывает голодное время. К тому же, политики, на наш взгляд, в романе хоть отбавляй. Разве история рода, сформировавшая на протяжении многих поколений личность народного интеллигента, не несет в себе национально острую политическую мысль? А чего стоило писателю в условиях сталинской ссылки создать образы виленских коммунаров исторически объективном освещении — как фразеров, сектантов, потерпевших поражение потому, что они утратили поддержку рабочих? Это политическое геройство!
Идея трудного, но все же в конце концов возможного соединения нескольких начал в национальном мирочувствовании белоруса, осознание его двойственного внутреннего состояния занимает М. Горецкого на протяжении всего творческого пути. Особенно художественно сильно эта идея воплотилась в повести с красноречивым названием «Две души» (1918—1919).
Но наличие «двух душ» — не эгоистическое состояние двуличия. Это опять-таки внутреннее отражение облика мира, указывающее на трудность и сложность его познания. «Две души» — условный образ той текучести и неопределенности, которая препятствует образованию схематических убеждений. Нельзя человеку быть одномерным и иметь одну душу. Писатель отдает предпочтение такому положению, когда в душе человека происходит постоянное нравственное движение, когда человек способен уловить действительную и многозначную диалектику окружающей жизни. Поэтому, по мнению писателя, внутренняя ясность всегда враждебна познанию ментальных миров. «Есть натуры, которые, чтобы спокойно и уверенно существовать, испытывают острую потребность в определенности и ясном понимании всего происходящего вокруг них, а равно и в их собственной жизни в известные отрезки времени. Таких натур больше всего среди славян и народов Востока, Им необходимы некое удовлетворение и душевный покой как итог осмысления всего сущего. Иной раз им просто неймется привести в порядок свои мысли и если не разрешить извечный вопрос: «Откуда все взялось и для чего существует?», то хотя бы успокоить себя, подумав, помечтав и вновь обретя ясность во взглядах на извечно неясное».
П. Васюченка в хорошей в целом статье «Диалектика души», помещенной в комментариях к повести «Две души» (М. Гарэцкк Творы. Мiнск 1990), все же приписывает главному герою Обдираловичу качества, ему не свойственные и писателем вовсе не предусмотренные. Когда М. Горецкий в вышеприведенной цитате пишет о натурах, свойственных больше всего славянам и представителям Востока, стремящихся к ясности, то он этим самым очевидно противопоставляет им как раз Обдираловича, у которого «две души». И неправда, что Обдиралович хочет во что бы то ни стало «преодолеть такое свое состояние». «Две души» — данность жизни. И не случайно П. Васюченка, приводя ту же цитату, подает ее неполностью, опуская слова об объективном существовании «извечной неясности», К ясности в повести стремится неказистый и примитивный большевик Горшок и достигает ее пределов, но это означает конец его жизненного пути, а в будущем и конец его идеологии, которую он исповедует.
Но идейного содержания повести «Две души» не понять, если не заметить, что и активный борец за национальную независимость Беларуси Суховей одномерен в своих политических взглядах. Он тоже, как и большевик Горшок, не отрешившись от своей нетерпимости и подозрительности, не признает «двоедушества» Обдираловича: «Что? Вы думали, я позволю себе положиться на этого ренегата? Еще неизвестно, как он поможет нашему другу Концевому. Что? Он говорил вам, якобы у него «две души»?.. И вы его защищаете? Напрасно! Это не «две души», это... это...— Парень ловил подходящее слово руками.— Это распущенность, разлезлость, мягкотелость — нечто для меня омерзительное, скользкое. Эти выродки несут погибель отчизне, как и всякие враги-чужеземцы... А-а, дрянь...»
Вся идейная суть повести в разоблачении мироощущения, отдающего предпочтение однозначности и упрощенчеству. И как это актуально для политической и нравственной жизни современной Беларуси! Суховеи не перевелись до сегодняшнего дня. А на самом деле, как справедливо убеждает писатель, мир полон перипетий и тайн вплоть до их астральных значений. Повесть «Две души» — это откровенное отрицание большевистского постулата, что общество делится по классовому признаку, чего писателю в атмосфере репрессивных 30-х годов, конечно же, не могли простить. Ведь у М. Горецкого все перемешано! Игнат Обдиралович считается господским отпрыском, а его молочный брат, пролетарий Василий — мужицким сыном. Но на самом деле все наоборот: Игнат мужицкого происхождения, а у Василя, примкнувшего к большевистской партии, родители помещики. Видимость — это еще не сущность. Вот почему, чтобы не ошибиться, Обдиралович так упорно стремится прорваться сквозь ясную, поверхностную видимость окружающей действительности к ее настоящей сущности. Именно поэтому он так осторожен, не спешит самоопределиться, за что его упрекают как большевик Горшок, так и Суховей, борющийся за национальное освобождение Беларуси.
В повести — двойственен мир, двойственен человек. Пламенный оратор и местный большевистский деятель Иван Горшок, по уважительной кличке — Карпович, имеет неблаговидное прошлое: «Деньги воровал, тело грязнил, а совесть водкой заливал», И не только в этом его «двойственность». О нем говорится так: «Приобрел уважение за ум свой у товарищей-рабочих и стал Карповичем. Но вожди-интеллигенты с их характерным инстинктивным пониманием не имели к нему особого расположения. Чувствовали в Карповиче тот сорт людей-самоучек, которые хотя и большой высоты достигают в искусстве, политике или в какой-нибудь науке, но навсегда остаются с каким-то изъяном в самом основательном, а поэтому вдруг и страшно легко сваливаются иногда на самый низ человеческой мысли. Они, такие, каким-то чудом совмещают в душе своей наилучший, кажется, гуманизм и наихудшее, окажется, человеконенавистничество, химию и алхимию, марксизм и хиромантию и с одинаковой искренностью веруют в то и в другое». И дальше: «Никомушеньки не признаюсь,— сам себе думал иногда Карпович,— но чувствую, что в любой партии мог бы находиться с полной искренностью». Это подтвердила жизнь на современном этапе. Бывшие коммунисты сегодня в относительно небольшой части группируются в собственном партийном объединении. Они «распылились» по другим, новым партийным образованиям и служат там со всей внутренней отдачей.
Повесть «Две души» создавалась в 1918—1919 годах, но разве в моральной и политической характеристике Горшка нет предугаданной писателем психологической данности личности Сталина и его окружения? На наш взгляд, имеет свое провидческое значение и глагол «окажется», употребленный писателем в будущем времени.
Провиденциальная, пророческая способность М. Горецкого как художника-философа просто поражает. Большевику Горшку оказалось не по силам распознать около себя под личиной большевика садиста, монархиста и русского шовиниста капитана Горешку. Стоит обратить внимание; фамилии у них очень похожи, что указывает и на их идейную и внутреннюю похожесть. Горшок и погибает от руки Горешки, своего двойника — сиречь будто от себя самого. Сегодня и в этом моменте содержания повести при внимательном чтении можно, как нам кажется, обнаружить злободневные аллюзии.
Имеется, видимо, какой-то аллегорический знак и в том, что в гробу Горшка никак не могут накрыть крышкой — мешает согнутая нога. Дело уже не в «большевизме», а в «горшковщине», которая, наверное, еще не скоро будет похоронена окончательно.
«Двойственна» в конце концов сама национальная идея. Она и «мужицкая» и «господская» (Игнат Обдиралович и Василь). Игнат, как и все герои-интеллигенты у М. Горецкого, и любит деревню, хранительницу народного духа, и ненавидит. С одной стороны, Обдираловичу и Ире, сознательной и активной деятельнице по национальному возрождению родного края, нравится призывно-революционный мотив гимна рабочих «Интернационал», а с другой — они и их друзья не прочь воспользоваться наследственными деньгами старого помещика Обдираловича, чтобы подкрепить ими национальное дело. В повести где-то уже маячит призрак национального большевизма, но пока для героев все же предпочтительнее надежда, что «вожди белорусского движения наверно смогут ко времени отхода из Беларуси немцев создать белорусское войско и вооруженной силой защитить отчизну», Как оказалось потом,— не смогли.
В эпилоге повести Обдиралович, имея простое происхождение и господское воспитание, приходит, однако, в среду борцов за национальное возрождение родного края, ведомый туда конкретными жизненными обстоятельствами и любовью к Ире. Теперь его путь не только верный, но и твердый, подкрепленный собственным душевным опытом.
В советское время М. Горецкий не был ни инакомыслящим, ни каким-то внутренним диссидентом в более позднем понимании этого слова. Он был просто здравомыслящим, умным, честным человеком и чутким к жизни писателем и политиком. Но как раз такие люди стали уже опасными для неудержимо укрепляющейся сталинской системы властвования. Эта система не могла простить ему не только прежних политических пристрастий, но и всего его творчества, философские основы которого имели ясную национально-освободительную направленность, а также неподкупную реалистическую обстоятельность. Система не могла простить ему самого склада его личности, деятельной и склонной к глубокому анализу, уже показавшей пример широкой и свободной сферы мышления. В трагической судьбе М. Горецкого, помеченной ранней высылкой из Беларуси и расстрелом, не было ничего случайного. К большому сожалению, в XX веке люди все еще часто платят за правду и честность своей жизнью. Максим Горецкий — в их числе.