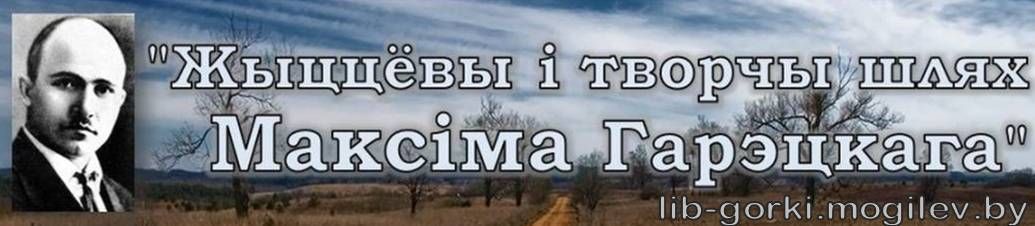Анна Запартыко
«Памятник может быть и архивным»
К 120-летию Максима Горецкого
Это история возвращения, растянувшегося на десятилетия, но все еще кажется, не завершившегося... Это история жизни, посвященной памяти...
В юбилейный год Максима Горецкого важно вспомнить не только о нем и его наследии, но и о его семье, особенно о его дочери — Галине Максимовне Горецкой. Именно благодаря ей в Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства хранится уникальная коллекция личных вещей и документов семьи классика. Галина Максимовна передала в архив редкие фотографии, переписку, посвященную реабилитации писателя, изданию его произведений, одежду, предметы быта. В фондах хранятся конспекты уроков и редкие книги, абажур и чернильница, вышитые полотенца и галстуки. «Вот картуз Максима Горецкого, тот самый, с известной фотографии» — директор БГАМЛИ Анна Запартыко показывает нам музейные предметы. Анна Вячеславовна была знакома с Галиной Горецкой. И специально для читателей журнала «Нёман» она поделилась воспоминаниями об этом знакомстве и появлении в архиве уникального фонда семьи Горецких. Также в этом номере мы публикуем два письма Галины Горецкой директору издательства «Правда» — маленькая частичка, к счастью, сохранившегося эпистолярного наследия, которое без лишних слов рассказывает о характере и жизни Галины Максимовны. А в ближайших номерах вы сможете найти уникальные малоизвестные материалы о педагогической деятельности
Максима Горецкого.
Редакция журнала «Нёман»
Это уникальный архив. Галина Максимовна Горецкая передала в Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства несколько тысяч документов и музейных предметов. Конечно, нужно помнить, что наследие семьи Горецких сегодня находится в двух хранилищах: у нас и в рукописном отделе Центральной научной библиотеки НАН Беларуси имени Якуба Коласа. Отдельные документы хранятся и в других архивах, но именно в этих двух хранилищах находится то, что семья берегла долгие годы в не очень приспособленных для этого (а часто и для самой жизни) условиях. В чем уникальность нашего архива? Во-первых, тут хранятся те рукописи-автографы Максима Горецкого, которые были неизвестны до момента передачи, те, что не были опубликованы в известном всем собрании сочинений. У нас хранится уникальнейшая переписка семьи — свидетельство возвращения творчества Максима Горецкого в белорусский и мировой литературный контекст. Больше тысячи писем, которые реконструируют весь процесс: возвращения, реабилитации, подготовки собрания сочинений Максима Горецкого. Хранятся уникальные фотоснимки, которые иллюстрируют множество изданий (их оригиналы находятся у нас). Этот архив свидетельствует про работу Галины Максимовны над рукописями отца, над их расшифровкой. Часто это большая проблема исследователей и издателей — расшифровать рукописи. Галина Максимовна сама расшифровала почти все написанное отцом. И сегодня у нас есть тексты, которым можно доверять. Она хорошо знала отцовский почерк, очень внимательно работала с восстановленными, зачеркнутыми, заштрихованными фрагментами рукописей.
Этот архив — памятник. Памятники бывают разные: название улицы, присвоение имени школе, институту, библиотеке, скульптурный памятник. А может быть и архивный памятник. И он очень объемный и многогранный по наполнению. Таких существует немного. Этот — только благодаря семье, которая все сохранила. Перевозили на квартиры, куда переезжали, не потеряв ни единого документа, ни листочка, пережив репрессии, войны, неуважение, иногда скрывая то, чем обладали.
Я могу даже назвать день, в который мы познакомились: 25 апреля 1996 года, когда Галина Максимовна приехала на очередные Горецкие чтения. Она приехала с подругой — дочерью еще одного репрессированного литератора Адама Бабареко. Чтения проходили в Ждановичах, но я там присутствовать не могла — выступала с докладом на другой конференции. Но до этого с легкой руки ученого Алексея Кавки, я созвонилась с Алесей Адамовной Бабареко (лично я не была с ней знакома). Разговор получился очень искренним и теплым, мы договорились, что при первой же возможности она познакомит меня с рукописями отца и передаст их копии в архив. Случай представился как раз во время Горецких чтений. И 25 апреля 1996 года Алеся Адамовна, как и обещала, пришла в архив с копиями отцовских рукописей и привела к нам свою подругу — Галину Максимовну Горецкую. Я показала им хранилище, фонды. Показала те две оригинальные рукописи Максима Горецкого, которые хранились у нас в архиве (драматические миниатюры, они хранятся в фонде Бенде). Ее этот визит, впечатлил, взволновал, и, мне кажется, ей у нас понравилось: понравились условия, в которых хранятся документы, внимание ученых к ним, наш коллектив. И после этого мы стали поддерживать связь: я ездила в Москву к Алесе Адамовне, привозила документы; позже — в Петербург, к Галине Максимовне.
В первый раз я поехала к ней в Петергбург в 2000 году. И тогда она передала в архив около 1000 писем, написанных ее семье в 1960—1970-х годах, кроме тех, с авторами которых еще продолжала вести переписку. Но основную часть писем я привезла именно тогда, привезла книги, личные вещи. Отношение Галины Максимовны было очень искренним, она рассказывала обо всем: про то, что хранится в ее личном архиве, с кем она виделась, про то, чем она взволнована, как относится к тем или иным событиям. Мы могли всю ночь с ней проговорить. Мне кажется, ей нужно было выговориться, она чувстововала рядом с собой заинтересованного человека. Я знаю, что она очень дружила с Терезой Голуб (заведующая отделом изданий и текстологии Института языка и литературы имени Якуба Коласа и Янки Купалы НАН Беларуси). Работала с преподавателем Института журналистики БГУ, доктором филологии Татьяной Дасаевой. Кстати, доверяла ей и свои женские секреты. Галина Максимовна достаточно ревниво относилась к некоторым темам, которые касались жизни ее родителей и ее семьи. Но она охотно согласилась, чтобы Татьяна Николаевна написала очерк об отношениях Леонилы Устиновны и Максима Ивановича, который получился очень трогательным, пронзительным. Галина Максимовна дружила с Николаем Илькевичем, с Янкой Брылем. Дружила и переписывалась. Когда я ехала к ней первый раз, я приписывала себе в заслуги ее согласие принять меня и поговорить про архивное наследие. Конечно же, я знала, что рукописи Горецкого отданы в академическую библиотеку. Архивы — это ведь не только рукописи произведений. И вот я ехала с такой самоуверенностью, что это целиком моя заслуга, мое внимание к Галине Максимовне, ее ко мне особенное отношение. Но оказалось не совсем так. В разговоре промелькнула фраза: «Иван Антонович Брыль сказал отдать все в архив литературы и искусства в Минск». И потом я нашла этот совет в одном из писем. К Брылю Галина Максимовна относилась очень уважительно, прислушивалась, и этот его совет сыграл значительную роль в том, чтобы началась работа с нашим архивом.
В последний год жизни Галина Максимовна тяжело болела. За ней ухаживал ее троюродный брат (родственник по линии бабушки Ефвросии) Валентин Евгеньевич Теодорчук. Он жил и живет в Петербурге. Его мать была очень близка семье Горецких. Когда они работали в Горках, то мать Валентина Теодорчука даже жила у них какое-то время, сохранились фото этой красивой молодой девушки. Валентин заботился о Галине Максимовне. Потом хоронил. Потом занимался всеми вопросами, связанными с сохранением памяти семьи. Посоветовавшись со мной, с племянником классика, известным ученым Радимом Гавриловичем Горецким, он поставил на могиле Леонилы Устиновны и Галины Максимовны общий памятник, перечислив всех: и самого Максима Горецкого, и его сына Леонида, погибшего при обороне Ленинграда... Там упомянуты все.
Последняя наша поездка пришлась на сорок дней по Галине Максимовне. Тогда же в Петербург вместе со мной и Радимом Гавриловичем ехали на научную конференцию и его коллеги. Они обещали помочь мне привезти все, что мне отдадут для архива. И я им очень благодарна, потому что каждый потом был нагружен каким-то архивным багажом. Валентин Евгеньевич сказал мне тогда: «Ну, вот вам ключи, оставайтесь здесь (в квартире Галины Горецкой) сколько посчитаете нужным и забирайте все, что посчитаете нужным для архива». Времени в командировке у меня было немного, я работала почти сутки, но за этот короткий срок, кажется, успела собрать все документы, все, что стало архивным памятником этой семьи. Мы договорились с Валентином, что если в личных вещах, которые он будет разбирать, или во время ремонта найдется еще что-то, то он обязательно передаст это в архив (он, кстати, библиофил, человек понимающий ценность архивных документов). Но, похоже, я была так сконцентрирована, что мне удалось собрать все, что было в квартире. Это два огромных старых чемодана, которыми когда-то пользовалась семья. Один из них, кстати, потом развалился в дороге. И я помню, как на меня подозрительно поглядывал проводник: дескать, такая приличная женщина, а что-то тащит в чемоданах, перевязанных веревкой. У меня была еще своя сумка, которую я прихватила, не рассчитывая на такое архивное богатство. Я везла печатную машинку Галины Максимовны. И еще какой-то сверточек или пакетик достался каждому участнику конференции, которые обещали мне помочь. Мне все помогали: коллеги, семья Валентина Теодорчука, моя семья. Мой муж на чем свет стоит ругался, когда увидел меня на вокзале с этими чемоданами. Думал, что я одна волокла их через весь Петербург. Таким образом, все эти документы прибыли в архив. Были разобраны. Через некоторое время прошла научная обработка. И теперь документы, которые были привезены после смерти Галины Максимовны, составляет опись №2 фонда семьи Максима Горецких.
Как раз тогда и были выявлены документы, связанные с педагогической деятельностью Максима Ивановича. Они очень бережно хранились, завернутые в бумагу. Я даже допускала, что Галина Максимовна могла пользоваться разработками отца, и не потому что не могла сделать сама, а потому, что это как бы связывало ее с отцом. Единство, которое возникало, когда она пользовалась этими конспектами. Она хранила все. Каждую мелочь. Школьные сочинения, которые сдавали ученики ее отцу. Галина Максимовна, в какам-то смысле, — уникальная дочь. Я знаю многих наследников, и слава Богу, большинство из них, как правило, именно дети, очень заботливо относятся к наследию родителей, не устают напоминать о нем, говорить о нем, пропагандировать. Но все равно в этом множестве заботливых людей Галина Максимовна занимает свое особенное место. Знаете, что больше всего удивляет? Она пережила многое, почти с самого ее рождения эту семью преследовали трагедии, потрясения, которые, конечно, отражались на характере детей. И Галина Максимовна, зная обо всех потерях, ощущая их, собственноручно переписала архивы отца и матери, сделала копии каждого документа, рукописей, писем, каких-то записей. Преписала от руки, напечатала на машинке. На тот случай, если что-то случится с одним экземпляром, чтобы второй сохранился. Цель была — сохранить при любых обстоятельствах. И еще одна цель — прочесть, изучить все, что было написано отцом и матерью.Она хотела опубликовать собрание сочинений отца. И она работала над ним, подолгу жила в Минске. Работала, спорила, ругалась. Я не была знакома с ней в то время, но она сама потом рассказывала об этом периоде. Вдруг проскакивала ошибка, кто-то настаивал на своем, отстаивал свои неразумные, как она говорила, подходы, которые противоречили объективной позиции в отношении произведений Максима Горецкого. И она все это стремилась исправить. Так что Галина Максимовна не просто дочь, она литературовед, исследователь творчества Горецкого, исключительный педагог — с каким восторгом она рассказывала о своей работе в Ленинграде! А какой прекрасной дочерью она была для своей матери. Как она ухаживала за матерью. Трудно представить, но, кажется она даже поступилась своей личной жизнью, отдавая всю заботу матери. Галине Максимовне была присуща жертвенность. Сохранился дневник Леонилы Устиновны, в котором она где-то с конца 1960-х годов пишет, как часто теперь нужно вызывать скорую, как часто нужно среди ночи бежать к телефону-автомату, к соседям, в дежурную аптеку. Она все время жалеет дочь: ей тяжело. Мать это знала, чувствовала, но Галина Максимовна ни одной строчкой, ни одним словом не пожаловалась. У нее не возникало и мысли на какое-то время оставить мать и заняться своими делами. Она целиком отдалась этой проблеме: поддержать мать в тяжелой болезни. Она оставалась с ней все время, до самого конца, не оставляя дел с возвращением и реабилитацией творчества отца. Такая вот необычная дочь. Конечно, она с многими конфликтовала. И мне кажется, что это была не просто особенность характера, а благоговейное отношение к текстам отца, к его творчеству, которое не позволяло простить даже маленькую неточность в переводе, в подаче текста, в комментариях. И сегодня это имеет для нас огромное значение. Она каким-то образом приучила тех, кто прикасался к биографии, творчеству ее отца, истории ее семьи к особенному ответственному и объективному к ним отношению.
В Петербурге она жила очень скромно: однокомнатная квартира в спальном районе, которая когда-то досталась ей ценой ее собственного здоровья. До получения этой квартиры они с матерью жили очень тяжело. Не из-за финансовых обстоятельств, а из-за жилищных. И тем не менее с ними в то время жила еще старшая дочь Адама Бабареко Элеонора, пока не получила какой-то свой угол. К ним часто приезжали люди. Читаешь письма к Галине Максимовне и не понимаешь, как могли в этой квартире умещаться бесчиссленные визитеры, каждого из которых нужно было встретить, собрать на стол, хотя бы чаю предложить и положить спать. Но, по-моему, эти две женщины принимали всех, кто приезжал в Ленинград и знал их адрес. Галина Максимовна жила в очень скромных условиях: минимум мебели, минимум удобств (за исключением газовой плиты и горячей воды). И не потому что денег не хватало. Кажется, она не могла жить иначе, как будто сказав себе: «Я не имею права жить по-другому», — потому что перед ней, за ней, в памяти, внутри нее всегда была судьба ее родителей, и малейшей роскоши позволить себе она не могла. Все, что у нее было, она отдавала на то, чтобы поддерживать память, возвращать творчество отца. Конечно же, все дела и поездки требовали средств.
Галина Максимовна была петербургской интеллигенткой. И в первую очередь, про это свидетельствует ее дневник. Она любила театр. Она посещала все выставки, все музеи. И в дневнике могла написать, что была сегодня в Русском музее, а потом написать обо всех картинах, которые она в этот день увидела, изучила. Через неделю она снова шла в музей и снова записывала картины. Она не просто, прогуливаясь, ходила по залам музея, она изучала, описывала, осмысляла: сюжет, эпохи, школы. Она посещала библиотеки, в первую очередь, пытаясь отыскать следы отца, даже просто фамилию в публикации. Но интересовалась и мировой литературой. Ей нравилось все красивое: в квартире было множество папок с репродукциями из журналов. Галина Максимовна любовалась шедеврами мировой живописи, до которых у нее не было возможности дойти, доехать, увидеть оригиналы. Но она всем этим интересовалась. У нее была хорошая библиотека, прежде всего белорусской литературы, много подаренных книг (больше после 1960-х), много книг с автографами.
Она любила своих родных. Была одной из тех, кто сплачивал в Петербурге род Горецких. Про своих родных она знала все. Она как никто другой поддерживала дух своего родовода. О прототипах «Комаровской хроники» рассказывали и Радим Гаврилович, и Гаврила Иванович, но мне кажется, основной рассказчицей была именно Галина Максимовна. Очень любила свою бабу Фросю и деда Ивана, очень много вспоминала о них, вспоминала о своих детских впечатлениях: пыль была солнечная и теплая, весна была ярче... Все лучшее на свете для нее было связано с Богатьковкой. Вспоминая, она во всем находила что-то хорошее. Тот, кто был знаком с ней неблизко, немного с ней работал, стал свидетелем каких-то ситуаций, может отметить: «У нее характер! Неуступчивый, принципиальный. Женщина с характером». Но при всем этом Галина Максимовна была очень оптимистичным человеком. Я видела ее взволнованной, умиленной, например, когда она вспоминала прошлое. Казалось бы, так тяжело приходилось и в Кирово-Вятке, и в Песочне, и в Ленинграде, но она видела в этом какой-то судьбоносный смысл и все равно вспоминала о чем-то приятном. С ее кировской подругой Алесей Адамовной, которая и сегодня живет в Москве, они поддерживали связь всю жизнь. А это ведь совсем непросто быть привязанным к одному человеку всю жизнь, и мне кажется, что их дружба достойна уважения. Такое дано не каждому. Галина Максимовна переписывалась с родственниками, с друзьями матери, с учениками отца. Находила людей, которые могли хоть что-то вспомнить о Максиме Ивановиче, завязывалась переписка, дружба. Все это требовало энергии и внутреннего стержня, чтобы с таким вниманием относиться к людям, к творчеству отца, матери, и вообще ко всему, что тебя окружает.



Фото Константина ДРОБОВА и из фондов БГАМЛИ.