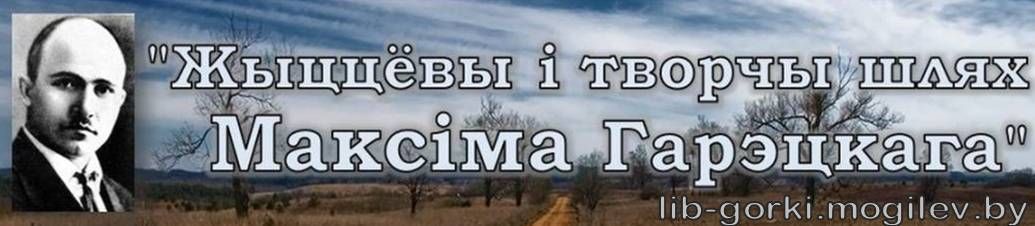Петр Васюченко
Что оно и откуда оно?
Современники Максима Горецкого, писатели-«нашенивцы» (Янка Купала, Якуб Колас, Максим Богданович, Алесь Гарун, Вацлав Ластовский, Змитрок Бядуля, Тетка, Ядвигин Ш. и другие), были не только мастерами слова, но и неутомимыми мыслителями, философами, прогнозистами, искавшими и творившими Беларусь. В ряду интеллектуалов «нашенивской» эпохи место М. Горецкого было особенным. Писатель неслучайно зачастую скрывался под псевдонимом Лявон Задума. Крестьянский сын, интеллигент в первом поколении, Максим Горецкий с деревенским упорством налегал на науку и литературное творчество. Старательный ученик и книжник, он уже в юные годы изведал не только радость познания, но и его горечь, о которой говорит председательствующий в собрании: «В великой мудрости много печали, кто умножает знания, умножает скорбь».
Максим Горецкий самореализовался не только как художник-реалист, но и как символист, постигавший трансцендентальные, мистические глубины бытия. Символизм в творчестве мастера проявился как результат интеллектуального поиска, тяжести знаний.
Художник никогда не избегал суровой правды жизни и многие свои произведения написал в подчеркнуто реалистической манере, например, повесть «Виленские коммунары» (1931—1932), роман «Комаровская хроника» (1930—1932).
Но в его художественном мире присутствует тот барьер, перед которым отступает рациональное и за которым обнаруживается нечто таинственное, недоступное силлогизму. И в эту таинственную сферу бытия приходится проникать наощупь, используя интуицию, как это предлагали символисты. Писатель имел особый интерес к онтологическим основам жизни, той бездне вопросов, которых боялись даже всеведущие философы-классики. И уходили от ответов в формальную логику, в исследование проблем человеческого разума.
«Что оно и откуда оно?» — так предельно просто сформулировал вопрос вопросов Максим Горецкий и заставил мучиться над ним героев своей ранней прозы. Люди, получившие реальные, полезные для человеческой жизнедеятельности знания, они отступают перед проявлениями природной трансценденции.
Они, как и сам автор, интеллигенты в первом поколении, убеждены, что наука может объяснить все и вся, в том числе и ту чертовщину, которая пугает малообразованных людей. Студент-медик Архип Линкевич, герой рассказа «Родные корни» (1913), получает из деревни письмо, в котором родители сообщают, что в новой хате завелась нечистая сила. Горькая усмешка появляется на губах молодого человека. «Як многа слаўнага ў нашых вёсках, сёлах, а тым часам як яны непарушна мёртвыя ў жыцці. Час ідзе — у гары, у воздусі лётаюць аэрапланы, дырыжаблі; пад вадой жывуць людзі, як на зямлі; перагаварываюцца на тысячы вёрст; даходзяць да таго, што думаюць замаражываць чалавека на колькі трэба часу і ўзноў аджыўляць яго; усё ідзе шпарка ўперад, толькі нашу вёску, як абросшы мохам камень каля шляху, з мясціны не скранеш... Сумна, сумна».
Будущий врач убежден, что нет в мире чудес, которых не объяснила бы наука, и в этом плане остается пленником ХІХ века — эпохи пара и электричества. В начале ХХ века эту самоуверенность уже подточили «безумные» теории А. Эйнштейна, З. Фрейда, К. Юнга.
Архип Линкевич приезжает в деревню, чтобы убедиться, что проделки нечистой силы — лишь домыслы подвыпивших мужиков. Что же ожидает его в хате, где поселилась нечистая сила?
«Добра спіць Архіп, дзіўна спіць Архіп.
А на дварэ малання бліснула вялікая, вострая, жудасная, загрымеў гром, па ўсім небе вялікі грукат-грымот пайшоў, у самыя далёкія канцы глуха і дробна пакаціўся, пасыпаўся і раптам: трах-тарарах-рах... трэснуў-стукнуў пярун.
Ірвануўся Архіп з усіх сіл сваіх, з усіх жыл сваіх, і праз страшны сон з лаўкі на зямлю паляцеў, больна аб мост урэзаўся».
В те времена, когда уже существовали дирижабли, радио и подводные аппараты, еще не слышали слова «полтергейст», но именно с таким аномальным явлением пришлось столкнуться просвещенному Архипу. Ему следовало бы припомнить реплику Гамлета, адресованную Горацио:
И в небе, и в земле сокрыто больше,
Чем снится вашей мудрости, Горацио.
Убеждениям рационалиста Линкевича противостоит природное нечто, не входящее в техногенную сферу человеческого существования. Рассказ об этом «нечто» найдет продолжение в рассказах и миниатюрах «Сокровенное», «Темный лес», «Страхи», «Стоны души», «Что оно?» (все датируются 1913 годом).
Иногда автор через своих персонажей толкует необъяснимый феномен реалистически. В рассказе «Страхи» все объяснилось, можно сказать, достаточно прозаично. Гаврила Печкур, не признававший нечистой силы и разных там страхов, был насмерть напуган голосом, воззвавшим к нему на кладбище. И только через три года после его смерти люди узнали, что испугал Гаврилу босяк и вор Атрох, спрятавшийся в шалаше на кладбище от дождя.
Но не всегда рациональная трактовка загадочного приносит ясность, убеждает. Умер деревенский колдун Янка и оставил после себя некую зону, где законы ratio не действуют, время остановилось, как это было в «зачарованном царстве» Максима Богдановича. В этой зоне творится нечто настолько страшное и необъяснимое, что «я-герой» сомневается в своих способностях объяснять мир:
«Забабоны мае! Адкуль вы? Я ж ведаю, што нічога таго няма... чаго... А ці ж ведаю? Не! Я дзеткам кажу аб прыродзе па-навучнаму, рэдка раскажу ім страшнае. Любыя дзеткі...
Думы мае! Адкуль вы? Калі тое было, што дзядуля-нябожчык (няхай святы ляжыць) казкі мне страшныя казаў, мэкай ды мышэшай пужаў.
Думы мае, адкуль вы?»
Трансценденция обнаруживается и в сознании современного, логично мыслящего человека.
Мыслящих героев Максима Горецкого страшат не только мистические глубины бытия, но и его поверхность, сфера активного действия. Они боятся поражения, которое подстерегает везде. А «детские вопросы» возникают на каждом шагу, множатся: «Что оно?», «Откуда оно?», «И откуда оно все?», «И к чему оно все?», «Что там?» Герой-интеллигент Максима Горецкого пока что добыл только один ответ на беспокоящие его вопросы: опираться нужно на «родные корни», а это значит, на национальную почву, историю, культуру, духовный опыт белорусского народа. Только вот есть народ, а есть люди.
Персонажей интеллигентской прозы Максима Горецкого тревожит не только природная, но и человеческая трансценденция, тайна души человеческой. Казалось бы, ему, Максиму, интеллигенту в первом поколении, душа белорусского крестьянина должна быть открыта, как на ладони. Ведь и сам он, как яблоко, недалеко откатился от родного дерева. Но почему вчерашние знакомые, деревенские дядьки снимают шапки перед ученым паничом? Разве он не свой?! Вернулся для того, чтобы учить и учиться, а не для того, чтобы шапки перед ним снимали и величали по имени-отчеству.
Во времена Горецкого сильны были проявления народофильства, идеи долга интеллигента перед народом, который прокормил, вывел в люди, выучил. «Платите долги!» — призывал и нашенивский деятель Вацлав Ластовский, имея в виду долг интеллигента перед трудовым народом. Они бы и рады были оплатить долги (если они есть), но вот только как?
Этими вопросами мучается Клим Шамовский, герой рассказа «В бане» (1912). Толстовская совестливость соединилась в его сознании с идеями «нашенивства», и вот он ищет гармонию с белорусским народом через практику «опрощения».
Клим приехал на рожденственские каникулы в родное Мордолысово и направляется в деревенскую баню, чтобы очистить не только тело, но и дух, чтобы избавиться от наростов панства и почувствовать себя своим среди своих.
Только его ожидает баня, в которой скорее наберешься грязи, чем очистишься. Теснота, ругань, антисанитария... Герою это напоминает сцены чистилища или ада, с чертями и грешниками: «Аж стогн лунаў у лазні. Павярнуцца — думаў Клім — недзе: паўнютанька лазня людзей. На нізу ў гразі блазнота... Іншы плакаў ад дыму ці яшчэ ад чаго і цёр вочы кулакамі, і плёскаў гразнай вадою. Але й тую яму нехта забараніў браць, казаў: «Злётай прынясі сам». Іншы сядзеў непарушна, ушчаміўшы галаву паміж ног. Той шчыпаўся, той штурхаўся, той жартаваў — мацаў некага па вачах, кажучы: «Ці еў балазе?»
Баня избавляет героя от народофильских иллюзий, которыми он тешил себя. Ночью его подстерегают новые мысли и вопросы: «Беларусь, Беларусь, чым ты была і чаго ты, во, даждала?» Клим понимает, что дважды в одну и ту же баню, как и в реку, не войдешь. Все меняется: деревня, Беларусь, да и он уже не тот. На память приходят строки из Якуба Коласа, которые герой тут же переиначивает:
Мой родны край, як ты мне мілы,
Уцяміць цябе не маю сілы….
Трансцендентальная Беларусь — такой видит ее теперь Клим Шамовский. Он не изменяет формуле Возрождения, выведенной нашенивцем Карусем Каганцом: Беларусь надо поднимать. Именно поднимать, а не опускаться в быт и прозу существования. Дело Возрождения выглядит более сложным и кропотливым, чем ему казалось ранее.
«Але ж не адракацца, не быць здраднікам, а любіць, шанаваць родную Бацькаўшчыну павінен, доўжан...», — быў другі шэпт. «Люблю... ці ж не люблю?.. А страшна яно, роднае... чым?..»
І спахмурнеў Клім, сігаў шпарчэй па скрыпучым марозным снезе. Ляцела думка: «Мой родны кут, люблю цябе без меры!» — і забавілася яна, не ўцякала.
— Ці не захварэла твая галава, Клім, пасля лазні? — спытаўся бацька.
— Палепшае, — адказаў сын».
Головная боль проходит, а больные вопросы остаются.
Иррациональное не только вокруг человека, а и в нем самом становится предметом дальнейшего художественного исследования Максима Горецкого. Глубины человеческого «я», бессознательное, описанное, но не разгаданное до конца З. Фрейдом, тревожит и Максима Горецкого, когда он пишет драматическую повесть «Антон» (1914).
Это произведение в свое время я рекомендовал кинематографистам для создания психологической драмы в духе И. Бергмана. Белорусский персонаж, набожный крестьянин Антон Жабон, свято верит каждому слову батюшки, но в самом себе носит целый сгусток неразрешимых, необъяснимых вопросов.
Просвещенный батюшка говорил в церкви об опасности алкоголя, который набрасывается на потомков и уничтожает их разум вплоть до седьмого поколения. Антон ничего не знает о модном учении Менделя-Моргана, равно как и о генетическом фатуме, который проповедовали писатели-натуралисты (Генрик Ибсен, Герхарт Гауптман). Выслушав проповедь, Антон обращает взгляд на своих детей. Его отец — горький пьяница, пропивающий ворованный лес. Чем обернутся его грехи для маленьких сына и дочери Антона? За что им страдать? А может быть, и не стоит им жить вовсе?
Вопросы, над которыми ломали головы более образованные, чем Антон, люди, оказались губительными для Антона. Потом, после случившегося, умные люди будут рассуждать над тем, что заставило внешне спокойного, тихого крестьянина поднять руку на собственных детей. Ни с того ни с сего он погнался за ними во время сенокоса, смертельно ранил маленького сына...
Образованные люди по-разному объясняют поступок Антона Жабона, которого поместили в сумасшедший дом. Причину объясняют болезнью мозга, бедственным социальным положением, общим политическим кризисом. Белорусский интеллигент, затесавшийся в компанию беседующих, считает, что причина спрятана в переломном состоянии народного сознания: «Цяпер у майго народа крызіс: старыя багі струпехлі, а новых... новыя мала ведамы... і сусветна новыя багі, багі цела, што даюць ці могуць даць поўнае здавальненне толькі целу, гэтыя багі не надта падабаюцца беларусу...» Белорусский интеллигент очень любит свой народ, но, по-моему, он так же далек от истины, как и его собеседники. На это намекает и автор произведения.
Вопрос о немотивированных кровавых преступлениях в наше время вышел за пределы человеческой души и стал проблемой всего человечества, и в этом плане история Антона, его тайна актуальна и сегодня.
Герои Максима Горецкого с их рефлективностью, самоанализом находят иррациональное не только в природе и обществе, но и в самих себе. Так происходит с Левоном Задумой, героем повести «В чем его обида?» (1926), который так же, как и Архип Линкевич, страдает из-за своих народофильских иллюзий. Распространяет среди мужиков «Нашу ниву», а они пускают газету на самокрутки. Влюбляется в деревенскую Дульсинею по имени Лекса, мечтает о будущем вместе с нею («учиться и учить!»), а она читает его восторженные письма всей деревне. Местные хлопцы обещают разобраться с Левоном в первый же его приезд, чтобы не бегал за деревенскими девками, мол, хватит с него и городских. На кого обижается Левон? Только на себя, на свои иллюзии и псевдонародничество.
В повести «Меланхолия» (1928) задумчивый герой М. Горецкого продолжает терпеть новые и новые поражения на почве народоискательства и белорусской идеи и в конце концов решительно прощается с «баней» — символоми отсталости, патриархальщины, сбрасывает с плеч крестьянский кожушок. Погруженный в меланхолию, герой преодолеет тотальную обиду на весь мир и на себя и научится смотреть на вещи не только восторженно, но и скептически, со здоровой иронией. Эти качества пригодятся герою М. Горецкого в будущих кровавых испытаниях, описанных в книге-дневнике «На империалистической войне» (1926).
Вольнонаемный Левон Задума попадает в гущу первой мировой бойни, на фронте знакомится с новыми проявлениями трансценденции — тотальной бессмыслицы, которой предстает перед ним война. Максим Горецкий, который по-прежнему стоит за плечами своего героя, неслучайно считается собратом писателей «потерянного» поколения (Э. М. Ремарк, Р. Олдингтон, А. Барбюс, Э. Хэмингуэй, Я. Гашек). Белорусский автор показал абсурдность войны как коллективного самоубийства в рассказах «Литовский хуторок», «Русский» (оба 1915), «Генерал» (1916) и в повести-дневнике «На империалистической войне», использовав не только приемы жестокого реализма, но и средства гротеска, трагической иронии, «очужения».
Создав образ Игната Абдираловича, героя повести «Две души» (1919) в смутное для Беларуси время, Максим Горецкий наделил нового персонажа некоторыми из тех черт, которые обнаруживались в Левоне Задуме, и прежде всего, внутренней конфликтностью. Она приводит к душевной раздвоенности, тому особому состоянию героя, которое в мировой литературе еще известно как феномен двойничества.
Произведение начинается как мелодрама. Шляхтич Абдиралович со своей молодой женой возвращается из гостей, по дороге на них нападают разбойники, у женщины от пережитого ужаса начинаются преждевременные роды, она умирает. Безутешный пан Абдиралович закрывается в своем кабинете, даже не взглянув на маленького Игналика. Кормилица, воспользовавшись моментом и желая лучшей доли для своего сынишки, подменяет младенцев. Так панский сын растет в крестьянской семье, а мужицкий воспитывается, как панич.
Такой фабульный ход дал основание для серьезного психологического исследования. В то время уже были совершены мировые открытия в области генетики, и не только ученые, но и литераторы размышляли над проблемой генетического фатума.
Что важней в формировании человеческой личности — наследственность или гены? Так заострял проблемы в «Двух душах» Максим Горецкий. Внутрення борьба, происходящая в душе героя, совпадает по времени с жесточайшей социальной битвой, эпохой войн, революций, смуты. Инстикт тянет Игната стать на сторону взбунтовавшейся народной массы, а воспита- ние в духе гуманизма, христианской морали, толстовства призывает отказаться от насилия.
Обстоятельства толкают героя делать выбор, но каждая попытка определиться вызывает новые душевные муки:
«І душа дваіцца. Дзве душы. Тая, што плакала і жалілася на другую, нашто яна мучыць яе падманкамі, цяпер цвярдзее, але робіцца нядобраю, набірае ўсё больш нейкай калянасці і нават жорсткасці. Няхай сабе тая плача па нейкай паненцы. Ёй не шкода, і яна не здрыгнецца, калі дзікая людская куламеса пашарпае на шматкі і князя, і Макасея-міліёншчыка, і разумца-армяніна. Ёй не шкода... А тая, другая, падумала і здрыганулася».
Интеллигентская деликатность Игната Абдираловича вызывала раздражение не только у его знакомых, но и у некоторых критиков того времени, в первую очередь у А. Навины (Антона Луцкевича), который жестоко упрекал героя за излишнюю мягкотелость. Неоднозначность социального поведения героя была одной из причин запрещения произведения в советское время. Но были и иные оценки. Позицию Абдираловича, неутомимо искавшего третий путь в революции, настолько высоко оценил белорусский философ Канчевский, что использовал его имя в качестве своего литературного псевдонима.
Сфера, в которой реальная жизнь переплетается с литературной, еще мало изучена, но очевидно, что в ней часто сбываются прогнозы и пророчества, не всегда самые светлые. В это пространство вводит эпилог «Двух душ», в котором можно найти намеки на дальнейшую судьбу Задумы и Абдираловича, да и их создателя также.
До конца своих дней Максим Горецкий пытался приспособить свои демократические убеждения к судьбе общества, искренно пробовал творить и в эпоху диктатуры пролетариата и тоталитаризма, писал и лояльные в отношении власти произведения. В отличие от многих конъюнктурщиков сталинской эпохи он стремился делать это честно. В результате стал жертвой одним из первых. Последняя запись в «Личном деле гражданина Горецкого» будет приговором «тройки» НКВД, присудившей писателя к расстрелу.
Судя по тексту протокола, разбирали дело М. Горецкого недолго и не раздумывая, судили полуграмотные люди, выходцы из той самой народной массы, о судьбе которой так заботился писатель вместе со своими героями. Таковы трагические парадоксы истории.
Интеллектуальнае искания героев М. Горецкого, их вера и совесть, их колебания и сомнения были далеко не напрасными. Очевиден вклад писателя в формирование белорусской интеллектуальной прозы, разработку концепции Белорусского Пути.
Рефлективность и любознательность, креативное начало, очарованность неведомым — эти особенности творческой личности писателя востребованы и сегодня. Отвечая на вызовы сложной современной эпохи, писателю следует уметь опираться на веру и на знания, интуицию и разум, как это умел делать Максим Горецкий.