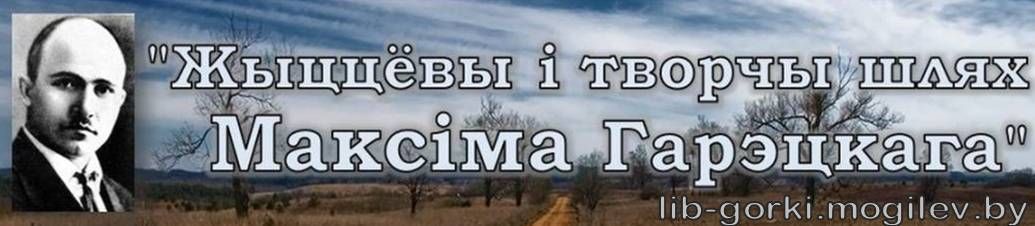Ольга Губская
Жизнь, воплощенная в слове
(еще раз о романе М. Горецкого «Виленские коммунары»)
Максим Горецкий принадлежит к числу тех выдающихся деятелей белорусской культуры, наследие которых требует постоянного нового прочтения, соответствующего мировоззрению современного общества, которое все стремительней развивается. Творчество классика белорусской литературы Максима Горецкого нельзя назвать малоисследованным. В своих работах к нему обращались такие ученые, как Алесь Адамович, Дмитрий Бугаев, Тереза Голуб, Татьяна Дасаева, Василий Журавлев, Виктор Коваленко, Владимир Конан, Ева Леонова, Михаил Мушинский, Михаил Стрельцов, Тамара Тарасова, Михаил Тычина, Иван Чигрин и многие другие. Многие вопросы горецковедения затрагиваются во время Горецких чтений, которые проводятся ежегодно, начиная с 1992 года. Активно исследуется «малая проза» писателя (повести «Скарбы жыцця», «Сібірскія абразкі», «Дзве душы», «Ціхая плынь»), драматические произведения «Антон», роман «Камароўская хроніка». При этом недостаточно исследуемым является роман М. Горецкого «Віленскія камунары» (1931—1932), который по сути своей опередил современное осознание «приобретений» революций 1905-1917 гг., показав завуалированно вторым планом не только историю о том, как давалась народу Великая победа революции, но и как формировалось при этом белорусское национальное движение.
Уникальность вышеназванного романа состоит в том, что он был написан в тот период, когда Максим Горецкий в очередной раз сталинских зачисток белорусской интеллигенции был арестован по делу несуществующего СВБ (Саюза вызвалення Беларусі — прим. авт.). Как отмечает племянник писателя Р. Горецкий, активно курирующий вопросы горецковедения сегодня, «10 апреля 1931 года решением Коллегии ОГПУ был вынесен внесудебный приговор по делу СВБ на 86 осужденных. Под № 39 отмечено:
«Горецкий М. И. — 37 лет, белорус, белорусский писатель, ученый специалист БАН:
а) в период с 1924 года по день ареста состоял в литературной к/p организации «СВБ» и проводил задачи этой организации;
б) направлялся центром организации в Горки для работы по созданию филиала в Горецкой СХА, т. е. совершил преступление, предусмотренное ст. 76, применительно к ст. 64 УК БССР (ст. 58-11, применительно к ст. 52-2 УК РСФСР). Виновным себя не признал». Таким образом, Максим Горецкий получил пять лет ссылки и был отправлен в г. Вятка. Это был период мучительных душевных терзаний и физического унижения человека, некогда стоявшего в основных рядах национального белорусского литературного движения. Белорусский деятель осознавал всю абсурдность сложившейся ситуации, но при этом не терял надежды на изменение своего положения к лучшему. В этот период он активно переписывался с близкими ему людьми, особенно женой, Леонилой Устиновной, работал над «Камароўскай хронікай» и старался закончить роман «Віленскія камунары», в котором видел един-ственный и, возможно, последний шанс на спасение, на возвращение своего имени в белорусский литературный дискурс.
«Як будзеш мець час, Лёля, вышлі мне бандэроллю мае нататкі пра «Віленскіх камунараў» (калі ix табе вярнулі з yсімі pyкапісамі); можа я ix тут апрацую для друку (а напішу i па-руску, i па-беларуску — дзе-небудзь прымуць)», — просил в одном из писем жену Максим Горецкий. Тогда у него еще теплилась надежда на возможность снятия ярлыка «нацдем», которое в контексте того времени приравнивалось к «врагу народа». «Цяжка мне ix («Віленскіх камунараў» — прим. авт.) пісаць для друку, усё баюся, каб не зрабіць якой памылкі у асвятленні», — делился с женой своими пережива¬ниями писатель.
Ценность романа «Віленскія камунары» как раз и состоит в том, что он воплотил в себе два явления: желание писателя на реабилитацию собственного имени в глазах политической системы, воплощенное в тексте романа через реалистическую типизацию, и бессознательное отражение собственного восприятия действительности, жестокой и уничижительной, отраженной в поэтике абсурда, которая, конечно, не доминирует в произведении, но уве¬ренно прослеживается как в языке, так и в стилистике образа главного героя романа, фигуры амбивалентной, многосторонней. С одной стороны, Матей Мышка выступает, как герой революции, с другой стороны, благодаря своим наивным и непосредственным поступкам, позволяет автору показать весь цинизм эпохи. Однако такое прочтение романа и трактовка главного персонажа стали возможны только сегодня, а в далекие 1960 годы (напомним, что роман был опубликован в журнале «Полымя» в 1963 году) суть романа сводилась к исторически достоверной трактовке М. Горецким революционных событий 1917 года. И это не удивительно, ведь имя писателя Максима Горецкого, реабилитированного только в 1959 году, должно было войти в литературу, а не вызвать новую волну недовольства. Ученые, как их сейчас называют «шести¬десятники», Д. Бугаев, А. Адамович, М. Лужанин, И. Чигрин, М. Мушинский, М. Стрельцов и другие, с упоением и восхищением открывали для себя нового, ни на кого не похожего, если иметь в виду белорусскую литературу, писателя Максима Горецкого.
История выхода романа «Віленскія камунары» начинается с письма, написанного в декабре 1958 года Гавриилом Ивановичем Горецким, братом писателя, адресованного Леониле Устиновне и Галине Максимовне, жене и дочери Максима Горецкого. Упоминание об этом письме можно найти в книге «Падзвіжнік з Малой Багацькаўкі» (2008) М. Мушинского. По его свидетель¬ству, в этом письме Г. Горецкий предлагает связаться с П. Глебкой, чтобы поговорить с ним насчет возможной публикации романа «Віленскія каму¬нары» и других произведений М. Горецкого. И несмотря на то, что в первое собрание сочинений М. Горецкого «Выбранае» (1960), вышеуказанный роман не вошел, литературоведы, понимая настоящую ценность материала, приложили максимум усилий для того, чтобы в 1963 году в журнале «Полымя» это произведение было напечатано. Автором предисловия выступил М. Лужанин, посвятив М. Горецкому такие слова: «Мы, у першую чаргу літаратары, літаратуразнаўцы i мовазнаўцы, як след яшчэ не прачыталі Гарэцкага. А пара б перадаць яго творы чытачу са справядлівай ацэнкай ix, фактаў літаратуры, цвяроза суаднесеных да часу стварэння i часу новага прачытання. Пара, каб гэты мастак буйнога, сапраўды-такі «самароднага», не падобнага на нічый іншы, таленту стаў на сваё заслужанае, але так i не здабытае пры жыцці месца».
Уже 6 мая 1964 года секция переводчиков ССП проводила заседание, посвященное чтению перевода «Віленскіх камунараў» на русский язык. На это мероприятие был приглашен брат писателя Г. Горецкий, который позднее в письме к жене писателя, Леониде Чернявской-Горецкой и Галине Горецкой писал: «А. Р. Гатаў сказаў караценькую уступную прамову i прачытаў 6-7 кавалкаў, пераважна з першае часткі... Потым папрасілі мяне сказаць пра брата. Гаварыў я караценька аб месцы «Віленскіх камунараў» у літаратурнай творчасці Максіма. Адзначыў, што гэты раман як бы мадэль вялiкай эпапеі «Камароўскай xpoнікі».
Потым гаварыў перакладчык Дораў. Ён адзначыў станоўчыя бакі рамана, але выказаў думку аб невыразнасці далейшага лёсу Мацея Мышкі. Ён застаўся ў Вільні як абываталь, без азначанай палітычнай мэты. Дораў раіў нават перарабіць канец... (!?)
Затым цёплую прамову сказаў Гарбачоў, беларускі пісьменнік і перакладчык з Віцебшчыны, неафіцыйны прадстаўнік беларускай літаратуры ў Маскве...
Гарбачоў адзначыў, што «Віленскія камунары» належаць да рэдкіх твораў пра рэвалюцыю, яе першыя крокі на ўскраіне Расійскай імперыі, мастацкую праўдзівасць твора, амаль дакументальнасць, лёс чатырох пакаленняў і прыход апошняга пакалення да Кастрычніка; неабходнасць пазнаёміць рускага чытача з творчасцю аднаго з пачынальнікаў беларускай прозы...Апошнім выступаў Аўг. Сям. Мазалькаў. Ён казаў, што Максім — яго настаўнік, па «Гісторыi беларускае літаратуры» яго ён вучыўся... Мазалькоў станоўча ацаніў «Віленскіх камунараў». Ён адзначыу, што Максім першы напісаў беларускі раман «Дзве душы», раней Якуба Коласа; што Максім - арыгінальны пісьменнік, iмя якога ў часе культу было пад забаронай; выданне «Віленскіх камунараў» на рускай мове — як бы новае нараджэнне пісьменніка зварот яго савецкай грамадскасці, i што гэта — самае важнае.
Ну, вось i ўся мая кароценькая справаздача. Мы з Лараю былі рады, што імя Максіма не баяцца гаварыць уголас, з пашанаю, без зняважлівых лаянак і заўваг. Але прапанова Дорава здалася нам недарэчным напамінкам, што крытыку тыпу вось такіх шуканняў заганы яшчэ трэба чакаць».
Это письмо не только показывает нам, как советская критика восприняла роман сразу после выхода в свет, но и отражает советскую логику формирования отношения к произведению вообще: оно обязательно должно было прокламировать государственную идеологию, взгляды героя должны быть четко очерчены и предопределены.
Конечно, с позиции человека, живущего в дне сегодняшнем, можно утверждать, что взгляды ученых 1960—1980 гг. объединены определенной однобокостью восприятия произведения, так как практически единогласно тогда утверждалось, что эстетической задачей писателя было создание образа коммуниста, который воплотит в жизнь новые социальные и политические основы, а сам роман — суровая летописная правда о борьбе за октябрьскую победу.
Суровой летописной правдой про то, как белорусский и литовский народы боролись за Октябрь, называл роман «Віленскія камунары» Б. Саченко. Документальную точность произведения подтверждали и сами участники событий на Вороней улице в Вильнюсе. Так, один из них, литовский коммунист А. Якшевич в своей рецензии на роман-хронику отмечал следующие: «Нават асобныя дэталі, апісаныя у рукапісе, цалкам адпавядаюць таму, аб чым расказваюць жывыя сведкі i ўдзельнікі гэтых падзей, а таксама таму, што я сам бачыў i перажыў. «Лоўля людзей на вуліцах горада...» — гэта прыйшлося перажыць i мне ранняй вясной 1918 г. (У часе нямецкай акупацыі Вільнюса). «Нямецкая акуратнасць, што межавала з тупагаловасцю», «гігіена...», «Я сам паспрабаваў такую лазню ужо летам 1918 г. У мястэчку Кашэдары...».
При этом начиная с 1980 годов уже наблюдается динамика в восприятии романа М. Горецкого «Віленскія камунары». Так, А. Адамович подчеркивал, что многое еще в творческом наследии писателя не рассмотрено и не оценено по-настоящему (книга «Браму скарбаў сваіx адчыняю», 1980); М. Стрельцов отмечает смелую форму произведения, в которой, по его мнению, присутству¬ют элементы авантюрного романа (статья «Чалавек з Малой Багацькаўкі», 1984): Л. Корень пишет о вынужденной историко-революционной трактовке содержания «Віленскіх камунараў» (статья «Максім Гарэцкі», 1996); Д. Бугаев указывает на необходимость перечитать творческое наследие М. Горецкого без оглядки на идеологические нормы и цензурные запреты (статья «Аплочана жыццём». 2003); И. Чигрин отбрасывает традиционный взгляд на коммунистов в романе и утверждает, что это люди-манекены, жертвы теории (книга «Паміж былым i будучым». 2003); М. Мушинский предлагает при анализе романа сконцентрировать внимание на изучении образной системы произведения (книга «Падзвіжнік з Малой Багацькаўкі», 2008).
Таким образом, становится очевидным, что трактовка романа «Віленскія камунары» имеет неоднозначный характер, и это доказывает, что М. Горецкий создал такое литературное пространство, которое дает возможность каждому читателю быть участником сложного литературного события под названием «произведение», которое заставляет анализировать не только события внутри сюжета, но и выносить их за пределы произведения, чтобы войти в исторический контекст. Ведь уникальность романа состоит еще и в том, что в 1930 годы он создавался контекстом, а вернулся в литературное пространство 1960 годов уже фактором контекста. Это очень интересное кросс-культурное явление, которое позволяет нам, пользуясь открытиями в области литературоведения и современными теориями, ориентированными на работу с текстом, прочитать этот роман, дистанцировавшись от позиций прошлого, чтобы вдохнуть в него историю настоящего, оставить частицу себя, как это сделал в своем романе Максим Горецкий.
Писатель, как непосредственный очевидец революционных событий и жертва репрессий, очень точно передал в романе атмосферу, в которой вынужден был жить. И несмотря на четкое понимание того, что художественное произведение в определенной мере отдалено от непосредственной фигуры писателя, человека Максима Горецкого, ибо в произведении живет свой герой и свой автор, творчество писателя М. Горецкого необходимо рассматривать сквозь призму автобиографичности. При этом следует отметить, что автобиографичность в романе носит двойственный характер: с одной стороны, история рода Мышек воспринимается читателем как автобиографическая исповедь главного героя, с другой стороны, имеет место высокохудо¬жественная обработка фактов биографии писателя.
М. Горецкий в описании судьбы Матея Мышки отразил определенные моменты своей собственной. Можно утверждать, что жизнь писателя и является тем основным событием, на базе которого возникает событие новое, художественное. Это та особенность романа, которая наделяет его полифоническим звучанием. Внимательное сопоставление жизни героя с жизнью самого писателя, его мыслями, размышлениями, дает возможность раскрыть глубину авторского замысла. В знак подтверждения вышесказанного обратимся к фрагментам произведения и биографическим материалам М. Горецкого.
В романе четко прослеживается два «сознания», показывается две истории жизни. Фактами биографии писателя герой романа Матей Мышка «наделен» с самого детства. Автор же в романе, четко понимая это, ни на секунду не отпускает персонаж путешествовать по страницам романа самостоятельно, то и дело между строк оставляя свои знаки, видимые только опытному, профессиональному читателю.
Итак, из произведения читатель узнает, что отец Матея, Михась Мышка, был арестован как революционер: «Maці ездзіла на суд, а мяне з сабою не брала. Бацька яшчэ i пасля суда сядзеў троху ў Вільні. І пpaciў мaцi, каб яна, калі будуць ix высылаць, прыехала б да яго i мяне б з сабою ўзяла. Але развітацца нам з ім не ўдалося. Адкрытка яго была затрымана у турме ці на пошце. I калі мы сабраліся ехаць да яго у Вільню, прыйшла другая, што скінуў бацька ў дарозе, калі ўжо ехаў». В этом моменте выразительно прослеживается параллель с одним из эпизодов жизни М. Горецкого в Вязьме, известном по воспоминаниям Л. Чернявской, жены писателя, напечатанных в книге «Ахвярую сваім “я”...» Р. Горецкого: «Праз тры дні Л. Чарняўская з сынам прыехала ў Вязьму, атрымала дазвол на перадачу (бялізну, цукар, махорку, сухары перадаць чамусьці не дазволілі). I ў камендатуры, i ў астрозе прыйшлося доўга стаяць на моцным марозе ў вялізнай чарзе, бо людзей, жадаючых аддаць перадачу, было вельмі шмат. Ад М. Гарэцкага прыйшла запіска: «Спасибо за передачу. Получил все. Отсылаю обратно корзинку и 2 рубашки. Заботьтесь о себе. Максим». Л. Чарняўская ўспамінае: «I гэта запісачка была апошняя пісаная да нас рукой Максіма. Вярнулася я ў Пясочню. Пайшла да следчага, каб дазволіў спатканне. Ён, праўда, абяцаў, але, калі я з'явілася па дазвол, сказаў, што зараз справа Гарэцкага не да ix належыць. Яшчэ раз паехала я у Вязьму, звярнулася ў камендатуру. Дзяжурны абвясціў, што Мaксім Іванавіч Гарэцкі ўжо выбыў з Вязьмы, а куды — не ведае. 3 гэтым я i вярнулася дамоў». С биографическими аллюзиями такого типа читатель встречается на протяжении всего романа.
Так, на первый взгляд не связан с судьбой писателя эпизод о столкновении между польскими и литовскими националистами за костел Святого Якуба. Матей учился в двухклассной министерской школе, жил надеждой и был счастлив, однако это счастье прервала политика. Герой произведения рассказывает читателю о том, что во время одного из таких столкновений на службе, которая впервые проходила по-литовски (за что собственно и боролись литовские националисты), находилась его мать, набожная католичка. Убегая от конного городового, она попала под ноги коня, и Матей, желая ее защитить, бросил в городового камнем, за что и был схвачен и передан в полицейский участок. Позже все пошло по прогнозируемому сценарию. «На другі дзень прыйшоў я ў вучылішча. I толькі паклаў кнігі на парту, як выклікае мяне загадчык. ...3 трэпетам стаяў я перад яго маленькім нізенькім пузкам... А ён разгладзіў сваю чорненькую бародку, пабалаваўся залатым ланцужком каля верхняе кішэні ў камізэльцы i потым спакойным, роўным, чыстым голасам сказаў:
— Вот что, друг любезный... Если бы ты был только хулиган, мы бы тебя наказали, но оставили бы в училище, так как могли бы еще перевоспитать... — (А ў мяне ўжо i сэрца замлела i нoгi падгінаюцца.) — Но, к сожалению, — казаў ён далей. — у нас есть совсем достаточные основания думать, что ты, кроме того, что хулиган, еще и не-ис-пра-ви-мый по-ля-чиш-ка... — (Гарачая кроў заліла мне твар.) — А потому, — скончыў ён пагладжваць бародку i балавацца ланцужком, і ўклаў рукі ў кішэні штаноў, — а потому, друг любезный, такая зараза нам в училище не нужна, и мы тебя увольняем».
В этом эпизоде снова звучат два голоса: наивно-серьезный — Матея и мудрый, горько-ироничный — автора. В этой семейной истории Мышки находит отражение как общее, так и частное: история разделения белорусской нации по вероисповеданию и судьба самого писателя, преданного патриота Беларуси, который первый раз был арестован поляками по подозрению в коммунистической деятельности (1922), а второй раз — коммунистами по обвинению в польском шпионаже (1930). Такие взаимоисключения и парадоксы истории и политической жизни, раскрытые М. Горецким в романе, не являются единичными проявлениями действительности того времени.
М. Горецкий ведет своего литературного персонажа дорогами, по которым прошел сам. Так, герой романа волей судьбы был заброшен в немецкий трудовой лагерь в Беловеже. Матей Мышка с восторгом рассказывает читателю про аккуратненькую баню, в которую водили пленных немцы каждые десять дней, про деликатное и заботливое отношение к пленным рабочим: «У лазню ганялi нас абавязкова праз кожныя дзесяць дзён. Змяшчалася яна у асобным, вясёленькім барачку, як i кухня, бальніца, швальня... Усё было вельмі акуратна, вельмі арганізавана, усё шло па гадзінніку на руцэ ў немца. Мыцца — 25 хвілін. Даюць лыжачку жыдкага мыла, наліваюць на далонь, — i марш пад душ... Адзяёмся мы ў другім прымыльніку, праз лазню ад першага...
— Хутчэй, хутчэй, рускія свінні! — ласкава жартуючы, падганяе немец з гадзіннікам на руцэ.
— Ну, ну! Хутчэй, хутчэй! Польскія свінні... — таксама ласкава ўторыць яму другі немец, таксама з гадзіннікам на руцэ...».
А потом читатель знакомится с доктором, маленьким, подвижным лысым человечком, который за минуту мог «вывернуць пацыенту бялкі, патыцкаць пальцам у бруха, сказаць, што годзен у лесарубы, i науздагон крыкнуць, што ecцi трэба не па-сабацку, а па-людску». «Да чаго ўсё было добра, па-гаспадарску пастаўлена i арганізавана!», «Жыць было весела...», — так характеризует свою лагерную жизнь Матей Мышка.
Однако в этом эпизоде очень ощутимо присутствие alter ego, которое ненавязчиво, но последовательно выделяет: «рускія свінні», «польскія свінні», «не па-сабацку, а па-людску».
Автор контролирует эмоциональное настроение читателя и умело корректирует его восприятие. С одной стороны, мы видим образ Мышки, способного посмеяться и всегда чем-нибудь утешить себя, и это не удивительно, ведь главный герой романа воплотил в себе собирательный образ народа, наивного, но не темного, которому «помажь салом по губам» — он только сделает вид, что счастлив, потому что вынужден терпеть несправедливость. Ему трудно разобраться в политических играх, но за шумом воды и мыльной пеной он хорошо слышит «русские свиньи», а во фразе «есть нужно не по-собачьи» иронически понимает «старательную» заботу о здоровье.
Именно так и происходило во время революции, и сам М. Горецкий, переживший голод, ссылки и разочарование, стремится через мировоззрение Матея, через могущественный народный оптимизм, переосмыслить пережитое. Это своеобразный способ проанализировать действительность, желание правдиво рассказать о которой не оставляло М. Горецкого на протяжении всей жизни.
Жизненную основу, обеспечившую чрезвычайную психологическую убедительность романного героя, можно найти в биографии автора, если обратиться к вятской переписке М. Горецкого со своими родными, а конкретно, с женой, Леонилой Устиновной: «Добры дзень, Лёля. Пішу табе на лесазаводзе № 2 «Заря революции», куды мяне паслала на працу біржа...» (5 ліпеня 1931 г., Вятка);
«У лазню я хаджу у месяц разы два-тры (гэта як раз амаль кожныя дзесяць дзён, як у творы. — заўвага В. Г.). Лазня вельмі добрая, каштуе ўсяго 25 кап. (падабенства лічбаў: 25 кап. і 25 хвілін. — заўвага В. Г.), а знаходзіцца таксама недалечка, па дарозе мне на службу; у раздзявальні кожнаму асобная шафка з вешалкаю i палічкамі; парнага аддзялення, праўда, няма, але гэта, можа i добра, — больш культурна; ёсць i асобныя нумары з ваннамі — гэта каштуе, здаецца, рубель ці рубель 25 к.» (20 верасня 1931 г., Вятка).
М. Горецкий щедро делится фактами собственной биографии со своим литературным персонажем. Так, биографическое начало имеет эпизод с арестом Матея Мышки, который в романе подается как очередное приключение авантюриста. Матея арестовывают на следующий день после встречи с неожиданно появившимся знакомым. «Я не ведаў i дагэтуль не ведаю па якой прычыне мяне арыштавалі. Тады я думаў, што за тое, што я быў у Савецкай міліцыі i браў удзел у кантраляванні на вакзале. Або па заяве каго-небудзь з добранькіх суседцаў. Падумаць на Рабэйку, што ён мог даказаць на мяне, мне i ў голаў не прыйшло», — размышлял Матей. Последняя фраза Мышки боль¬ше похожа на утверждение, чем на сомнение. И профессиональный читатель понимает, что М. Горецкий имел право на утвердительный характер фразы, ибо эпиграф «Гэта старая гісторыя...» — как раз-таки намек писателя на то, что такой момент был и в его жизни.
Известно, что М. Горецкий был арестован польскими властями в Вильнюсе в ночь с 19 на 20 января 1922 года. Две недели просидел без допроса, а позже узнал, что обвиняют его по целым шести пунктам Уголовного кодекса, среди которых и содействие коммунистической работе. Р. Горецкий в своей книге «Браты Гарэцкія», используя материалы «Камароўскай хронікі», так описывает арест Максима: «У ноч з 19 на 20 студзеня, прыблізна а трэцяй гадзіне, — стукаюць... «Хто?» — «Адчыняйце!» — прыглушаны i нязвычны голас гімназіяльнага вартаўніка, а з iм як бы i яшчэ нехта за дзвярыма мнецца. Рэвізію пачалі з пакойчыка, які служыў сталовай, і ў якім жыла Mіліна маці <…> «Апранайцеся!» - «Чаму?» Ён думаў, што нічога ж не знайшлі, дык не арыштуюць <...> Пасадзілі ў адзіночку № 40 ці 45 на другім паверсе. На чорнай дошцы ўнізе не напісалі прозвішча, а паставілі тры крыжыкі: дужа страшны злачынец! Два тыдні сядзеў без допыту».
В романе «Віленскія камунары» М. Горецкий создает следующую ситуацию для Мышки: «На другі дзень увечары (гэта было 17 снежня, за тыдзень да каляд), калі вярнуўся я з вакзала, прыйшлі немцы i арыштавалі мяне. Вобыску ў кватэры ніякага не paбілі. Проста прыйшло двох немцаў- жандараў, паказалі ордэр ад камендатуры i сказалі апранацца. Завялі ў турму на Лукішкі». Тюремные досмотры всегда являются фактом унижения человеческого достоинства, однако литературный персонаж М. Горецкого был готов и к таким испытаниям: «Штаны i сарочкі мае былі у дзірках, сам я быў вельмі худы, i ён, падла (супрацоўнік турмы Рудольф. — прим. авт.), адышоўся ўбок i закурыў люлечку, стаяў i глядзеў на мяне, пасміхаючыся, а потым скрозь зубы заўважыў:
— Ох, які ты пралетарый!
Я паслаў яго к чорту. Ён не пакрыўдзіўся. Але аловак i запісную кніжачку ў мяне адабраў!»
Возникает вопрос: за что арестовывать Матея, какой он враг, если и одежда у него дырявая, и забирать, кроме карандаша да записной книжки у него нечего? Безусловно, М. Горецкий иронизировал, поддерживая авантюрно¬-приключенческую атмосферу романа, однако этот, на первый взгляд, формальный и в чем-то даже занимательный момент из жизни главного героя можно соотнести с судьбой самого автора, у которого перед арестом «разабралі абраз, расчынілі самавар, калолі сяннік, выстуквалі сцены, глядзелі электрычным фанарыкам у яе (Мілінай Maці) папіросы, вывернулі яе падвойныя панчохі...» Не чувствовал ли себя М. Горецкий в тот момент раздетым, беспомощным и беззащитным? Не отобрали ли и у него, как у Матея Мышки, книжечку с карандашом, если понимать под этим право на свободное творчество? Скорее всего так оно и было. Именно потому Матея, как когда-то и самого писателя, завели «па жалезнай драбіне на другі ці трэці паверх, да дзвярэй «цэлі» (камеры) нумар 40». Автор проводит своего героя по тем же жизненным тропам, по которым некогда прошел сам, проявляя желание донести до читателя что-то большее, чем просто описание судеб персонажей-бунтарей Мышек.
Жизненный оптимизм Матея Мышки имеет ту же природу. Именно через письма и заметки Горецкого можно понять, до какой степени по-философски позитивно стремился писатель относиться к жизни, несмотря на всю сложность и несправедливость, которые ему приходилось преодолевать. В своих письмах к жене он пишет: «Не сумуй, трэба жыць, як прыходзіцца. Бывае горш, нічога не зробіш» (18 жніўня 1931 г., Вятка).
«Радуюся, што дзеці добра вучацца» (24 верасня 1931 г., Вятка).
Писатель временами даже обращается к самоцитированию: «“Неяк яно будзе”, — казаў ці думаў Жартаўлівы Пісарэвіч» (14 студзеня 1932 г., Вятка).
«I што вы за людзі: жывіцё ўсё нейкімі надзеямі, а ўзяць жыццё, як яно ёсць, не прызвычаліся. Ну, нічога, нічога: усё добра будзе» (14 лютага 1932 г., Вятка).
Писатель ищет радость во всем, это «ўсё добра будзе» проявляется почти в каждой его мысли, в каждом взгляде на вещь или явление: «Ізноў стаяць маразы. Але ў мяне цёпла, купіў дроў» (26 лютага 1932 г.).
«Яшчэ маразы, але сонца ўжо прыгравае» (29 лютага 1932 г.).
В этом «удовлетворении» временами проявляется и «чудачество» Мышки, однако именно из переписки М. Горецкого становится понятным, что это не совсем уж и чудачество, а свойственное для того времени, аргументированное обстоятельствами поведение. Так, М. Горецкий посчитал необходимым рассказать про некоторые детали своего быта, радость от которых современному человеку, отдаленному от той эпохи, от глумления над человеком, когда в невыносимых условиях необходимо было жить и работать, может показаться странной: «Я ўсё чакаў, каб падмарозіла, але цяпер мне ўжо не бяда: купіў калёшы. Праўда, на левую нагу № 15, а на правую № 12, але заплаціў усяго 5 руб. і вельмі задаволены гэтым набыткам» (10 лістапада 1931 г.).
«Хаджу у новым пінжаку i вельмі рад» (11 красавка 1932 г.). И этот, на первый взгляд, псевдооптимизм М. Горецкого целиком оправдан, ибо условия жизни были настолько сложными, что любой минимальный комфорт считался счастьем.
Однако и у писателя, как и у его героя, были минуты душевного беспокойства и грусти. И это является свидетельством того, что Матей Мышка — не комический персонаж и что писатель не только иронизирует над ним и вместе с ним, но и показывает ту иронию судьбы, которую прочувствовал сам. И контраст обычной жизни — (того «мышиного бега» от столовой до работы и домой) с серьезными душевными размышлениями — не столько композиционный прием, сколько непосредственное состояние писателя во время создания романа. Так, в своих письмах М. Горецкий временами открывает душу, позволяет проявиться своим эмоциям и переживаниям:
«I мне бывае часам сумна, але я ўжо закамянеў» (23 жніўня 1931 г.).
«У поўным разбродзе я цяпер, не ведаю, якім шляхам i да якой прафесіі ці занятку больш кіравацца» (24 кастрычніка 1931 г.).
«Часам находзіць на мяне вялікая злосць i крыўда, што фактычна адкінулі мяне ад літарацкае работы, як апошнюю непатрэбшчыну. Бо ці ж магу я ў cвaix цяперашніх умовах пісаць? А няўжо ж я так-там нічога не варты, нават з самага левага пункту погляду? I вось надоечы напісаў у Менск начальніку ГПУ, каб вярнулі мне мае затрыманыя рукапісы. Але хто там пачуе мой голас, калі я не пісьменнік, якога б нехта цаніў як пісьменніка? Ну, нічога. Усё нічога. Усё добра будзе» (29 красавіка 1932 г.).
М. Горецкий описывает и то, как рядовые обыватели возвышаются, становятся полноправными хозяевами жизни. При этом возникает вопрос: почему так поступает писатель, который во время написания произведения уже хорошо понимал и правду о революции, и ее результаты и перспективы? Литературовед Т. Голуб утверждает, что работа над романом «Віленскія камунары» «яшчэ цепліла надзею пісьменніка на змену абставін i адначасова была пэўным часовым кампрамісам з боку аўтара. Асвятляючы тэму рэвалюцыі, ствараючы вобразы камуністаў, як мужных i адважных барацьбітоў, змагароў за светлую будучыню, Максім Гарэцкі iмкнуўся не толькі сцвердзіць сябе як пісьменнік, але i паказаць сваю прыхільнасць да рэвалюцыйных ідэй, чым спадзяваўся выклікаць давер у высокапастаўленых асоб, якія маглі б змяніць яго трагічны лёс».
Однако в этом контексте необходимо вспомнить строки из произведения «Скарбы жыцця», которое писалось приблизительно в одно время с романом «Віленскія камунары», и в котором автор точно отвечает на вопрос: почему революция имела успех, и почему он сам на некоторое время встал под ее знамена. Эмоции М. Горецкого здесь схожи с теми чувствами, которые переживает Матей Мышка, только у последнего они трепетные и радостные, а у писателя — щемящие и болезненные. Передавая их, он будто бы оправды¬вается за то, что произошло: «I я пайшоў. Старыя дарогі пераступіў. Новыя шляхі рассцілаліся прада мною. Сілам сваім рабіў парад. Зброю сваю аглядаў. На новыя баі рыхтаваўся... вялікія баі!
Чорная заслона з вачэй ужо спала. Прад вачыма нібы пабялела. Слёзы аблягчэння дробна крапілі мяне, асвяжалі. Дыхаць мне было лёгка i прыемна.
Сеў на шумнабежны воз i на крылах шпаркасці яго ў новыя, нязнаныя просторы паляцеў. Вольныя вятры веялі мне свежым павевам. Новая эпоха мярэжыла ў тумане...
Там буйныя краскі цвітуць: п’яная моц слодыччу ад ix ліецца... I баяўся я самлець ад тэй моцы вялікай, перавышаючай мае малыя сілы... Маною д’ябальскаю атручала мяне».
В своем произведении «Віленскія камунары» М. Горецкий приводит читателя к пониманию того, каким образом такие, как Матей Мышка, обыватели, которые и являлись составной частью революционных масс, попадались в пропагандистские ловушки. Автор показывает, что молодые красивые «това¬рищи» из Москвы — тоже в большой степени жертвы системы. Эти юноши, так же как и молодой Горецкий, искренне верили в справедливость своего дела, потому и глаза у них горели, и речи были пламенными, а это-то и притягивало утомленных, бесправных людей. Положение некой неожиданной эйфории сопровождало участников революционного движения, и именно в таком настроении они нередко делали выводы и принимали политические решения.
На страницах романа М. Горецкий дает читателю возможность поприсутствовать на выборах в Совет рабочих депутатов, которые проводились 15 декабря 1918 года в Вильнюсе. Двести депутатов, среди которых девяносто шесть коммунистов, бундовцы, национал-демократы Литвы, эсеры, социал-демократы-интернационалисты, литовские народники, поалей-цианисты — все предчувствовали не только перемены, но и надеялись на непосредственное участие в формировании нового строя. Как замечает Мышка: «Адразу ж пачаўся бой за месцы ў прэзідыуме». И этот бой неожиданно для Мышки оказался несправедливым, ибо комфракция не соглашалась допустить в пре¬зидиум представителей других партий, кроме бунда и социал-демократов-интернационалистов. Герой романа, описывая те события, отмечает: «Мушу прызнацца, што пазіцыя камфракцыі здалася мне спярша як бы крыху нейкім гвалтам над правамі іншых партый, — настолькі яшчэ быў я тады наіўны i палітычна слабаразвіты».
Эта наивность характерна не только Матею. Приведенные выше слова — это также и признание М. Горецкого в собственной наивности, которая в свое время позволила ему написать статьи «Будзем жыць!» (1918), «Няхай жыве Камуністычная Беларусь!» (1919) и, укоряя Скирмунта и Воронко в неискренности намерений помочь белорусскому народу получить независимость, надеяться на то, что единственное спасение — в коммунизме и создании единой Советской России.
Уверенный в необходимости идти за большевиками, во главе которых стоял Ульянов-Ленин, М. Горецкий в свое время, не понимая еще или не замечая парадокса мысли, эмоционально утверждал: «Теперь вильсоновская братия пусть помозгует, кто же истинный представитель Белоруссии: пан ли Скирмунт, Воронко ли, неведомый никем, наспех написавший несколько кни;онок на русском языке по белорусскому вопросу и ничего общего с народом не имеющий, или Дмитрий Жилунович, рабочий по выделке кож (м. Копыль Минской губернии), еще в 1906 году выпустивший сборник белорусских пролетарских стихотворений, гонимый царским режимом, польскими панами и лидерами белорусско-буржуазного возрождения за то, что действительные интересы крестьянского рабочего класса в Белоруссии и идеи коммунизма ставил выше всего? Ответ ясен. Няхай жыве камуністычная Беларусь!» Через определенное время З. Жилунович, как известно, так же был репрессирован: его исключили из партии в 1931 году за осознанное проведение национал-оппортунистической и национал-демократической линии и поместили в Могилевскую психиатрическую клинику, где он и умер, не выдержав физических и моральных издевательств.
Позже в своем произведении «Скарбы жыцця» М. Горецкий напишет: «Я клін у сабе нашу. Клін у мяне ўвагналі...» Так вот история Матея Мышки — это повествование о том, как этот клин вгонялся, как чувство какого-то насилия соседствовало с пониманием причастности к великому делу, к созданию новой жизни.
Благодаря сохранившимся письмам М. Горецкого можно выявить еще один аргумент в пользу автобиографизма в романе «Віленскія камунары». Среди перечня имен, которыми М. Горецкий подписывал свои письма, таких как Максім Гарэцкі, Максім, бацька, Ма, М., можно выделить еще несколько: Брадзяга, Задумекус i Стары дурань. Подпись под письмом «Брадзяга» не только указывает на социальный статус и героя, и писателя, но и помогает понять жанровую специфику романа, а также является своеобразным косвен¬ным подтверждением того, что произведение носит авантюрный характер. М. Горецкий сам чувствовал себя «бродягой» по жизни, без постоянного пристанища, без семьи, с которой его разлучили. Его судьба — это серия сложных «приключений» и испытаний. Это он, М. Горецкий, был выброшен из социальной ячейки общества, но не сломался, не погиб, не потерял себя и не изменил своим принципам. То же самое он «передал» своему герою Матею Мышке. И не случайно М. Горецкий не подписывался тогда «Лявоніус Задумекус»: это было время собирать силы, а не страдать от рефлексии, душевного самоанализа. Для автора это было нелегко, так как несмотря на большие заслуги перед белорусской культурой и обществом, писателя уже в конце 1920 гг. Отвергла Советская Беларусь. Воспоминания о Вильнюсе периода 1910—1920 гг. не оставляли его даже в ссылке. В письме к жене М. Горецкий писал: «...У Менск мяне зусім не цягне... Можа, прыйдзецца бавіць час у Вятцы цi яшчэ дзе далё¬ка, аж пакуль не адчыніцца дарога да Вільні. Туды б я таксама паехаў».
Вот такой циничной, безжалостной и беспринципной была революционная и постреволюционная эпоха. Эту силу цинизма, пропустив через историю собственной жизни, не мог не отразить в романе белорусский писатель. И сделал он это, как великий мастер слова, вынужденный работать под внимательным цензорским взглядом, через посредников — литературного персонажа и автора романа, оставив свое видение действительности между строк.
Если внимательно присмотреться к герою романа «Виленские коммунары», то можно с уверенностью сказать, что это фигура неоднозначная как в художественном воплощении, так и в своем существовании внутри произ¬ведения. Матей будто бы и революционер — ходит в Рабочий клуб, слушает лекции, голосует за большевистские идеи, даже участвует в защитной операции виленских коммунаров, но при этом он чувствует себя независимым человеком, которым по большому счету движет не столько слепое желание воплотить в жизнь идеи большевиков, сколько сила собственной выгоды. В этом смелом для 1930 годов образе ощущается актуализация архетипа трикстера, но не мифологического, несущего контекст прошлого, а уже модернизированного варианта «советского трикстера», который, конечно, аккумулировав в себе народную мудрость героев белорусского фольклора, определенное плутовство героев европейских авантюрных романов, хитрость и находчивость Гоголевских персонажей, все же трансформировался в нечто особенное под воздействием изменений в социально-политической жизни.
Как отмечает Марк Липовецкий, занимающийся исследованием архетипа трикстера, трикстер оказался востребован в советскую эпоху как персонаж, противоположный «наивному герою», модифицированному Ивану-дураку, который в официальной культуре изображался как основной герой революционной эпохи (см., например: «Страна Муравия» (1936) А. Твардовского, «Член правительства» А. Зархи и И. Хейфица, «Светлый путь» (1940) Г. Александрова), а в контрофициальной — как основная жертва советской социальности («Усомнившийся Макар» (1929) А. Платонова, «Один день Ивана Денисовича» (1959/62) А. Солженицина, «Привычное дело» (1966) В. Белова, «До третьих петухов» В. Шукшина и др.).
М. Горецкий обращается именно к такому способу отображения действительности, создает именно такой образ в связи с требованием времени, ибо «советский трикстер» «наиболее адекватно воплотил силу цинизма, необходимого для выживания в постоянно меняющихся, непонятных и непрозрачных социальных условиях советского общества, отражая — в комической, игровой форме — ту реальную социальность, которая сложилась в результате большевистского эксперимента, и которая не вписалась в бинарные структуры как официально советского, так и неофициальных дискурсов». М. Горецкий, как непосредственный очевидец революционных событий и жертва репрессий, точно передал в романе ту атмосферу, в которой вынужден был жить. Несмотря на то, что роман «Віленскія камунары» писался для печати, автор нашел возможность не только передать дух эпохи, но и в социально-бытовых и политических заметках создать такой художественный многогранный образ, который, с одной стороны, репрезентировал героя революции, а с другой стороны, через его наивность и непосредственность показывал реальную историческую ситуацию, раскрывал весь цинизм эпохи.
Подчеркнем, что образ Матея Мышки не является прямым воплощением архетипа трикстера, а репрезентует его в трансформированном виде, продиктованном сменой исторических эпох. Так, Матей Мышка — не мошенник, не авантюрист, у него нет осознанного желания обмануть, украсть или изменить принципам, а если он иногда и решается на мелкие, сомнительные с позиции традиционной морали, поступки, то делает это с такой непосредственностью и искренней мотивированностью, что даже не возникает желания укорять его.
Таким образом, литературный трикстер советского времени отличается от мифологического, но существуют определенные черты, которые подчеркивают общую природу образа. Принимая во внимание результаты современных исследований про трикстера, можно выделить следующие наиболее важные характеристики, которые проявляются в советской литературе: «советский трикстер» амбивалентен, выполняет функцию медиатора, лиминальный, склонный к театральности, прямо или косвенно связан с сакральным контекстом. В той или другой степени эти черты свойственны и образу Матея Мышки.
Как уже говорилось, для архетипа трикстера характерны амбивалент-ность и лиминальность. Это значит, что трикстер всегда находится за преде¬лами морали, поскольку, как отмечает М. Липовецкий, имеет способность «“не влипать” в какую-то одну систему ценностей, нарушать, разрушать и непочтительно высмеивать границы между оппозициями, в том числе и сакральными». Лиминальность трикстера проявляется в способности находиться между позициями, определенными законами. В соответствии с этим трикстер — всегда человек дороги, а его социальная позиция изменчива. Все это можно применить к характеристике Матея Мышки — трикстера по воле судьбы, приключения которого начались еще в детстве и не заканчиваются на протяжении всей жизни: в юношестве Мышка переходит с работы на работу, во время немецкой оккупации Вильнюса с интересом наблюдает то за поляками, то за немцами; попадает то в лагерь для военнопленных в Беловеже, то в тюрьму, а между всем этим с интересом наблюдает за политической борьбой много¬численных партий. Главный герой не только физически переходит с места на место, но и интеллектуально путешествует по идеологиям, предложениям и обещаниям партийных лидеров. Такая форма путешествия — удачная находка М. Горецкого, которая дает возможность писателю в выгодном свете показать многопартийную идеологическую борьбу за власть в Вильнюсе и определить роль маленького человека в большом вихре политики. Так, М. Горецкий мастерски манипулирует советским и несоветским дискурсом при создании образа Матея Мышки, с одной стороны, насыщая его речь советскими фразеологизмами, с другой стороны, создавая такой контекст, который целиком их дискредитирует. «Дзе я працую, там мае i усё...», — таким эпиграфом начинается глава «Клуб на Вароняй», в которой рассказывается, как Матей Мышка вместе с жителями Вильнюса собирал книги в Рабочий клуб. «Свое» состояло из тех книжечек, которые русские, когда уходили, «кiнулі ў горадзе ў поўным бяззладдзі. Дык рабочыя, ходзячы на работу, калі бачылі, што валяецца без гаспадара, цягнулі яе на Варонюю... I так, патрошачку-патрошачку, сабралася ў нас на Вароняй бібліятэка ў некалькі тысяч тамоў». Так из чужого, брошенного не по своему желанию без присмотра, возникало «мое», и этот пример — только деликатный намек на советские методы давления и манипуляции, про которые когда-то вслух заяв¬лял М. Горецкий в произведении «Чырвоныя ружы» (1926). Однако Матей Мышка искренне делает свое дело, думая, что приносит пользу большевикам, что все действительно совершается ради его же будущего блага.
При этом «революционер» Мышка не спешит отдавать преимущество своего голоса какой-нибудь партии, он всегда где-то между полюсами, идеологиями. Конкретными системами ценностей. Так, он посещает собрания в Рабочем клубе на Вароней, но точно подчеркивает, что лекторы тянули каждый в свою сторону, но говорит при этом апеллируя к большевітским выражениям: «Пры ўсім тым, абуджалі яны ў рабочых масах сацыяльную свядомасць, не давалі драмацъ класаваму пачуццю. I рабочыя праз ix рабіліся больш пісьменнымі, больш развітымі людзьмі». Эти устойчивые советские фразы в контрасте с трагическим сюжетным содержанием романа являются примером заданной М. Горецким всегда макаронической речи персонажа.
Мышка критикует организаторские способности политиков, но одновременно с этим во время восстания, стоя на страже с карабином, сам выступает революционером-романтиком. Мечты которого далеко в небе. В его мыслях очевидно проявляется наивное обожествление власти, которое вызывало в сознании простых людей большевистское могущество, смешанное с усталостью от всего, что происходит, и как итог этих мыслей-размышлений звучит в конце пафосная утопическая фраза: «А можа быць, там, у ix ёсць ужо такія дасканалыя прылады, што бачаць яны на нашай зopaчцы-Зямлi не толькі вялікія сінія акіяны. Чорныя плямы мацерыкоў. Але i трубы фабрык i паседжанні Саветаў... I можа быць — даўно ужо прайшлі яны наш шлях. I даўно ўжо няма ў ix нi бедных, нi багатых, нi эксплуатаваных, нi эксплуататараў, нi нацый, нi рэлігій, нi войнаў i турмаў, нi голаду i ўcix нашых пакут <...> i можа быць yciмi ciлaмi хочуць яны нам дапамагчы. Пасылаюць нам адтуль свае веды i свой досвед. Але мы не умеем прыняць ад ix тых вясцей. I cваімі сіламі робім тое, што вядзе чалавецтва да шчасця».
М. Горецкий мастерски иронизирует над пафосными лозунгами и стереотипами, в которых идеализируется война. Так, Матей Мышка радуется (как «жартаўлівы Пісарэвіч»), что его, с покалеченной рукой, мобилизуют, что «не думаўшы, не гадаўшы, трапіў» Мышка «крыварукі на вайну... I на такую, дзе i галавы не шкода: кaлi трэба, дык i трэба! А самае-то важнае, калі жыцця свайго для справы не шкадуеш. Тады нічога i не баішся. Тады i змагацца лёгка, i нават ісці на смерць — прыемна!» В отличие от компетентной авторской позиции наивный персонаж, возможно, хочет засвидетельствовать свой героизм, влезть в какую-нибудь авантюру, чтобы вернуться оттуда новым человеком, не «криворуким», не сыном меньшевика, а героем времени — и революция выглядит тут наибольшей авантюрой.
Такая способность героя впитывать в себя противоположные идеологически-культурные элементы (сначала он радуется, что попал на войну, потом мечтает про мирный путь разрешения конфликта) и при этом создавать компромиссные прежде всего для себя ситуации предопределена именно архитипными способностями трикстера медиатора-парадоксолиста.
Образы, созданные писателем, не соответствуют представлениям об идеальных персонажах современной М. Горецкому советской литературы. Автор подчеркивает, что организаторы пролетарского движения смотрели на своих представителей с четко прослеживаемым прагматизмом. Об этом свидетельствует фрагмент диалога между Кобаком и Мышкой:
«— Аб чым задумаўся? — кажа ён [Кобак. — В. Г.]. — Кінь журыцца. Справы нашыя някепскія. Па-першае, мы ix усё ж ткі добра праўчылі. А па-другое, «пралетарыям няма чаго губіць, апрача cвaix ланцугоў».
— Аднак жа лепей жыць, чым паміраць, — запярэчыў я, от так сабе, дзеля свае прывычкі казаць «але» або «аднак» насупроціў сказанага».
Читателю понятно, что ответная реакция персонажа совсем не формальная, поскольку одно из самых известных большевистских высказываний, которое, как принято считать, является призывом к свободе подневольного класса, в приведенном контексте является своеобразным философским размышлением перед оправданием возможной смерти.
Матей Мышка проявляет желание и способность выживать в сложное время большевистской реконструкции. М. Горецкий создает такое дискурсивное поле, в котором происходит обыгрывание большевистских лозунгов и прокламаций через введение их в нестандартный контекст, и способствует этому созданный образ Матея Мышки — трикстера по своей природе, назначение которого — показать те политико-идеологические противоречия, которые дискредитируют понятие «гуманизм». С одной стороны, маленькому человеку предлагали большое и светлое будущее, а с другой стороны, отправляли на верную смерть. Это противоречие и порождает Мышку-трикстера — человека, который, в принципе, согласен «получить» лучшую жизнь и даже прикладывает для этого усилия, но одновременно понимает, что в этих пред¬ложениях есть что-то искусственное, что «ісці на смерць не страшна, але не вельмі прыемна»; что «лепш жыцъ, чым паміраць», даже когда «акрамя ланцугоў i губляць няма чаго». Таким образом, трикстер Матей дискредитирует и обыгрывает социально-политические парадоксы большевистской системы, а точнее, той системы ценностей, на которой она базировалась.
Таким подходом к художественному отражению действительности М. Горецкий близок с Я. Гашеком, «создателем» чешского «трикстера» — солдата Швейка, героя романа «Приключения бравого солдата Швейка» (1921—1923). Как и Швейк, грубый среди всеобщей грубости, Матей Мышка выступает наивным и временами меркантильным среди всеобщей народной наивной веры в то, что своими руками под руководством чужих слов можно построить собственную счастливую жизнь. И когда веры в собственные силы не хватало, проявлялась банальная жажда выживания, при которой меркантильные интересы преобладали над иллюзорной верой в изменение жизни к лучшему, М. Горецкий, как и Я. Гашек, через образы своих героев выступает против всей той общественной системы, в которой было потеряно уважение к человеку как наиважнейшей ценности жизни, что, в свою очередь, превращало его в системное средство реализации мощных проектов и тем самым нарушало традиционный порядок жизни и порождало хаос. А хаос порождал смерть, такую же неоправданную и жестокую.
В конце октября 1937 года в отношении М. Горецкого выходит «Постановление 1937 года Октябрь 27 дня г. Смоленск»: «Я, начальник Кировского РО УНКВД сержант Гос. Безопастности Быстров, рассмотрев материал на гражданина Горецкого Максима Ивановича, 1898 г. рождения, уроженца Малая Бочатьковка, Мстиславского р-на БССР, по национальности белорус. В 1922 году арестовывался польскими властями, перебежчик. Судимый к пяти годам лишения свободы за участие в контрреволюционной организации белнацдемовцев, образование имеет высшее, работает учителем школы в гор. Кирове.
Принимая во внимание, что он подозревался в антисоветской
деятельности, а потому руководствуясь 145 УПК —
Постановил:
Горецкого Максима Ивановича арестовать и содержать под стражей гор.
Сухиничи.
Нач. Кировского РО
Сержант Госбезопасности (Быстров)».
Как же быстро этакие быстровы решали вопросы человеческих судеб. Документ приводится со всеми ошибками: переврано не только название места рождения, но и фамилия бывшего ссыльного. Очевидно, что все проводилось в спешке, ведь Сталин дал приказ: «Виновных судить ускоренно. Приговор — расстрел». Обвинение было предъявлено незамедлительно. «Будучи непримиримым врагом Советской власти, в течение ряда лет проводил контрреволюционную работу, высказывал террористические и контрреволюционные намерения, работая учителем школы, обрабатывал учеников в контрреволюционном духе», — гласило обвинение. К обвинению прилагался пакет допросов людей, окружавших учителя, как оказалось позже, красиво сфабрикованных.
Приговор был очевиден — было вынесено решение о расстреле. В тот день, 10 февраля 1938 года в 14 часов 45 минут из места содержания под стра¬жей были взяты, а в 15 00 расстреляны вместе с Горецким еще 39 человек, из них одна женщина. Трупы были зарыты на установленную глубину.
Вот так за 15 минут лишился жизни выдающийся писатель, педагог, ученый-филолог. Роман «Віленскія камунары» не спас М. Горецкого от смерти, но, хочется верить, что при правильном его прочтении, сможет удержать наших современников от возможных ошибок, которые уже не раз совершались в прошлом.