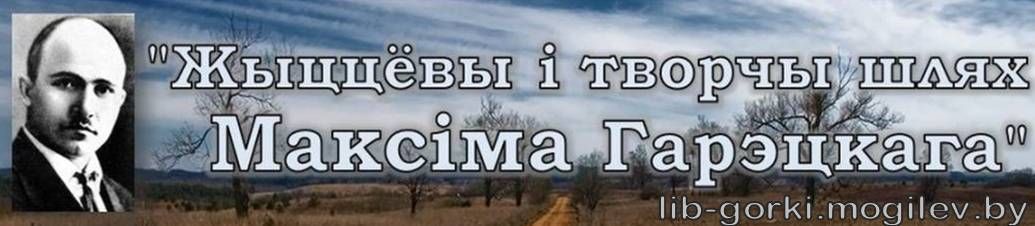Алена БОРОДИНА
“РОДНЫЕ КОРНИ”
Проблема исторического сознания в “Комаровской хронике” М. Горецкого
Одной из главных особенностей современности является интерес к истории. Кто мы? Какие мы? Какой путь прошли? Кем были наши предки? Обусловлен этот интерес, кроме всего прочего, еще и такой специфической чертой нашей общественной ситуации, как несформированность исторического сознания.
Этот феномен духовной жизни включает познавательные, научно-теоретические формы освоения исторической реальности. Однако продуктом духовной активности в конечном итоге оказываются оценки прошлого, являясь в совокупности необходимым условием установления устойчивых связей между историческими периодами развивающейся действительности.
Историческое сознание обеспечивает связь между поколениями, реализует функцию преемственности в качестве социальной, исторической памяти. Кроме форм специализированной познавательной деятельности оно включает и образные формы освоения реальности. Участие искусства в формировании исторического сознания есть не что иное, как проникновение художественно-образного мышления в мышление историческое. “Интерес историка к человеку прошлого, особенно отдаленного, к человеку, понимаемому как личность с ее индивидуальностью, т. е. внутренним миром, может быть реализован лишь в малой степени. Это связано с особенностями содержащейся в исторических источниках информации (неполнота, разрозненность, односторонность, неоднородность) и возможно лишь по отношению к историческим личностям.
Что же касается обычных людей, вовлеченных в исторический процесс, то они при наличии соответствующих сведений воспринимаются лишь как индивидуумы, совокупная деятельность которых имеет в качестве результата разнообразие исторических ситуаций. В то же время (за редчайшим исключением) никакими данными о них как личностях историк не располагает”, - отмечает К. В. Хвостова.
И вот тут на помощь приходят такие книги, как “Комаровская хроника” Максима Горецкого. Повесть воссоздает отчетливый образ эпохи, тем более что определяющим моментом ее композиции становится определенное историческое событие: восстание 1863 года, революции 1905 и 1917 годов, гражданская война, трагический 1937-й...
Кто-то остроумно заметил: “Сначала была жизнь, а уже потом она стала историей”. Через историю рода Задум (Батур) мы ощущаем причастность к своему народу, его истории и традициям, а через них - к общечеловеческому обществу.
Своеобразным алгоритмом воплощения этой закономерности можно считать совокупность “уравнений”:
Я + Я = СЕМЬЯ
СЕМЬЯ + СЕМЬЯ = РОД
РОД + РОД = НАРОД
НАРОД + НАРОД = ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
Семья как естественная среда развития ребенка, которая закладывает основы личности, есть, бесспорно, общечеловеческая ценность. Главный принцип семейного воспитания: делай как я. Другой важный аспект - воспитание чувства гордости за род, ответственности за его доброе имя, осознание истории семьи как части истории народа, изучение деяний предков, забота о продолжении рода, сохранение и приумножение его добрых традиций. Прежде всего через семью возможно “соединение времен в человеке и его гуманистической культуре” (И. Т. Фролов).
Ценность “семейной” истории и в том, что ее, в отличие от официальной, не переписывают, поэтому она свободна от конъюнктуры. Можно, правда, спорить о том, свободна ли она от субъективизма, но именно субъективному сознанию в период значительных социальных потрясений, на котором и акцентирует внимание Горецкий, отводится определяющая роль. Именно оно в условиях разрушения привычного уклада жизни как бы заполняет социальный вакуум, скрепляет бытие. При недостаточном уровне развития субъективного сознания наблюдается то, что описывает Горецкий в начале 20-х годов: “А вообще, теперь все же было время реакции среди молодежи: не было истинного Бога. Многие кончали жизнь самоубийством”.
Для самого писателя в начале 30-х годов таким “истинным Богом” стал тот морально-этический опыт, духовные ценности, что формировались в народе на значительном историческом отрезке и воплощались в образе рода Задум. Недаром Максим Горецкий признавался: “Записался “Хроникой”. Будто родное что-то мое пришло ко мне в дом... Если бы только мне написать эту свою “Хронику”. Это была бы вещь, что на протяжении определенного времени какую-то цену имеет”.
Роль “Комаровской хроники” в формировании исторического сознания белорусов неоценима. Как отмечалось, в основе этого процесса лежит историческое познание. Кроме упомянутых уже событий повесть знакомит нас с такими вехами белорусской истории, как присоединение края к России, ликвидация унии, приход “вольницы” (1861), события периода русско-турецкой войны на Беларуси, а также великие и трагические события первой трети XX века. Результаты оценочной деятельности, направленной на прошлое, связаны с описаниями той самой “вольницы”, когда “на большую семью хлеба не хватало. С весны и до нови пекли хлеб из капли да лебеды, подсыпали мякины. Разваливался такой хлеб”. А восприятие революции 1905 года локализуется в рассказе о том, как “к пану Нероду пришли раз толпою герасименцы, краснянцы... Пан спрятался, выслал им через Стефана деньги на ведро водки. Они деньги взяли и ушли”. А спустя несколько дней всех подозрительных забрали стражники. “Еще тогда у крестьян мысль была, что не царь виноват, а паны, что они и “царем крутят”.
Очевидно, что события прошлого в образах исторического сознания отражаются не зеркально, а под определенным углом, выявляя тем самым богатый внутренний мир субъекта, о котором Горецкий в рассказе “Родные корни” сказал: “Душа, братец, может быть и под серым жупаном не серая”. Поэтому и национальное самосознание наших предков не разрушилось, народ не отрекался от традиций, приумножал духовное наследие. Белорусский народ - это и те, кто личный интерес рассматривает в русле интересов белорусского государства, и те, кто просто живет по-белорусски, как их предки. Среди героев “Комаровской хроники” мы находим и тех и других. Ганна “песни очень любила петь и очень много их знала. Только говорить по-русски стеснялась, что по-пански, и так и не научилась”. На одной из свадеб “спели песен сотен пять, на сто разных мелодий”. Маринка “просила Кузьму скорее выслать ей белорусский букварь и грамматику, чтоб быстрей научиться правильному белорусскому языку”. “Ехал ректор, студенты, говорили по-белорусски”. “На Троицу были в Хорошем ученые люди, записывали язык народный, разные слова”. Лаврик желает “так работать, чтобы... когда-нибудь вернуться в Беларусь отыскать на ее просторах значительные полезные ископаемые, которые создали бы основательный фундамент для перестройки экономики Беларуси”.
Сознательные белорусы стремились улучшить жизнь своего народа, потому, что все они - его дети. Это подчеркивает Горецкий через описание внешности своих героев, у которых преимущественно серые глаза, а если не серые, то все равно чистые, ясные, по-доброму наивные. В таких глазах - самостоятельность, покой, уверенность в себе, легкая печаль и ирония. “Не так уже богато и жили, ...но ремеслом занимались, неурожаев не боялись, без хлеба никогда не сидели. Вероятно, ремесло наделало их такими уверенными и веселыми”. Это о мужчинах. Женщины почти все красивы, а если и не очень, то натуры доброй, хозяйственные, подвижные, старательные. “Ласковое слово скажет, стремительно пройдет, ...все говорит, смеется… Последним поделится”. И, бесспорно, они заслуживали любви. “Марко, бывало, на руках ее носил, как дитя, носил... Говорил о ней: “Ну разве она мне жена? Она мне - друг”. И когда умерла, все эти слова повторял: “Она мне первым другом была. Я на другую женщину и не взгляну. Друг мой умер! - скажет и как заплачет!”
Определенный диапазон чувств как устойчивого отношения к действительности: эмоциональных реакций на те или иные ее стороны - также результат диалектического развития человечества.
“По крайней мере, три составляющие образуют народное самосознание: родной язык, осознанное прошлое и заветное слово. На каждом временном срезе венчает эти составляющие религия”, - пишет Н. В. Карлов о русском национальном самосознании. Набожность белорусов, их вера в высшие духовные ценности значительно повлияли на характер семейных взаимоотношений между отцами и детьми, мужчинами и женщинами, родственниками. Положение жены в семье нельзя было назвать угнетенным и неравноправным, она чаще являлась помощницей и советчицей мужа... несправедливое, жестокое отношение мужа к жене в белорусских семьях было явлением очень редким, даже исключительным, если муж не пьяница” (Э. С. Дубенецкий).
Труду и любви белорусы придавали большое значение и относились к ним чрезвычайно серьезно. Подавляющее большинство эпизодов “Комаровской хроники” убеждает в том, что мы имеем право гордиться своим прошлым и своими предками, хотя Горецкий далек от идеализации вся и всех.
“Комаровка! Моя милая и вместе с тем постылая Комаровка. Как люблю я тебя вместе с твоим приветливым садиком, леском... Люблю твоих милых, славных, веселых деток, угрюмых, печальных стариков и веселых певуний девок, ненавижу твою грязь и неуютность... Живу я в тебе, тужу и болею душой и телом”. Но это не сентиментальная созерцательность, а жажда деятельности, так как у многих героев “Хроники” возникает и реализуется стремление “набраться силушки и начать сдвигать камни и вызволять уже зажатых ими”: “Отец постарел немного, поутих, но оставался самим собой. Глядя на него, Лаврик чувствовал обиду и жалость, хотя часть отца он ощущал в себе и во всех детях. С поганой частью хотел Лаврик бороться, добрую - развивать...”
Пресловутая белорусская толерантность имеет две стороны: безразличие к существованию иных взглядов - и уважение к ним, даже при невозможности их понять. В идеале толерантность - сильная черта сильного народа.
И тогда “живут рядом белорусы, литвины, поляки, староверы, православные и католики”. Толерантности нельзя научиться из книг, она есть плод личного исторического опыта, пережитого и прочувствованного. Но писатель не может не замечать, что порой она превращается в покорность или равнодушие: “Услышали выстрелы в лесу, ...не зная, что там такое, побежали ближе, на выручку. Отец бежал позади и сдерживал: “Куда вы, дураки? В свидетели запишут”.
На мировоззренческом уровне подобные метаморфозы приводили к ренегатству. “Пан Шклянский разбогател, ...особенно когда перешел из католичества в православную веру и когда ему стали давать большие казенные подряды. Шклянский замордовал людей по-крепостнически... Он же разобрал в Пацкове закрытый костел на кирпич, перевез его в Пьяново и построил большой спиртзавод”. Однако впоследствии умер от неизлечимой болезни, не оставив после себя мужского потомства. Верующие люди видели в этом отмщение, хотя при жизни Шклянский и выстроил в Хорошем деревянную церковь.
Противоречиво и отношение сельчан к образованию детей. И хотя какой-нибудь “отец говорил, что каждое дитя его пусть само выбирает стежку, только пусть посоветуется с ним”, — большинство считало, что учить надо либо сына - калеку, либо сыновей в многодетных, но малоземельных семьях, а, пожалуй, из каждой дочери мать хотела “сделать хорошую хозяйку, которая жила бы при ней и работала, безо всяких, поганых, лишних наук”.
Однако время шло, менялись порядки, причем не без моральных издержек - закономерных плодов прогресса. “Кузьма, приехав из школы, сделался весьма своевольным... А раньше все “тихоньким” считался. Что там с ним старшие ученики выделывали, то он дома с детьми начал делать”.
Нельзя не отметить влияния на традиционное сознание новой общественной ситуации и связанные с этим влиянием изменения в социальной психологии. “Источником многих своих ошибок Лаврик считал теперь как раз свое некритичное отношение к людям, свою так называемую мягкотелую доброту”.
Вот своеобразная памятка, правила обращения, адресованные представителем общества 30-х годов своему более наивному современнику: “Человек человеку - волк... Если ты разговариваешь с другим человеком, то должен хорошо подумать над каждым его словом, чтоб не нанести вреда себе и, возможно, другим.
Не начинай разговора с незнакомым, если не знаешь, кто это - он может быть вашим единомышленником, но не откроется перед вами из перестраховки, но он может держаться и противоречивых взглядов, а выдать себя за единомышленника, чтоб выследить вас и сделать соответствующие выводы. А поэтому не с каждым можно разговаривать, как душа с душой - разве что о завтрашней погоде... Будьте хитрым, не открывайте свою душу, а если понадобится, то постарайтесь выглядеть не тем, кто вы есть на самом деле... Так я говорю, и я знаю, что говорю”.
В это время, по словам Л. Гениюш, “всякое благородство... выдается за буржуазный предрассудок, что-то ненормальное, как некогда подлость”. Героям “Комаровской хроники” также приходится избавляться от искренности и открытости. “Так уже подозрительно научился думать Кузьма...
Безусловно, в 30-е годы Максим Горецкий не мог открыто говорить об опасности деформации извечных духовных ценностей. Его роль и тревога отображаются в снах героев “Хроники”, точнее, в их духовной жизни во время сна, где выявляется тяга белорусов к таинственно-непознаваемому. “Лаврику не было покоя. Сердце его будто чуяло что-то черное... Снилось ему, что он и его мать веют на гумне жито... Какой-то голос слышится: “Это не жито, а слезы твои буйные, женщина!”
Очевидно, что художественный образ проникает значительно дальше, чем это позволяет объективное научное познание, отражение объекта органично сочетается с самовыражением и самореализацией субъекта. “Комаровская хроника” несет особым образом организованную информацию, которую иным путем получить просто невозможно.