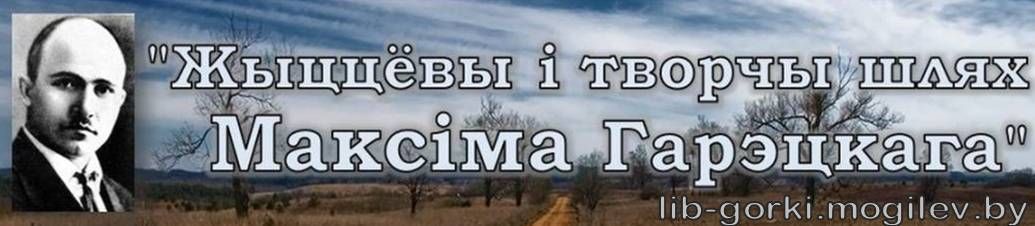“ШТО ЯНО?”
Темы сомнамбулизма и самоубийства в произведениях М. Горецкого и М. Богдановича
Один из самых известных российских историков литературы Д. С. Лихачев в своей книге “Литература – реальность – литература” высказывает интересную мысль о наличии, связи, взаимодействии и выявлении в литературе рационального и иррационального начал: “Рациональность и иррациональность в художественном творчестве находятся в некотором, свойственном каждой эпохе и каждому художнику отношении, и нельзя безнаказанно это соотношение нарушать...”
С этой точки зрения период, переживаемый нами, безусловно можно называть временем “иррацио”. Сегодня наблюдается всплеск интереса к самого разного рода “неопознанным объектам”, и в первую очередь, “неопознанным объектам” человеческой психики.
Наша эпоха - эпоха кризисная, когда до предела обострены так называемые вечные, проклятые, или, по Максиму Горецкому, “шалёныя” вопросы бытия человека.
Как и рубеж XX–XXI столетий, конец XIX – начало XX был отмечен необычайным вниманием к “патаёмнаму” человеческой психики, души (‘‘психеи”).
Остановимся на двух небольших проблемах, а точнее, на специфике их отражения в некоторых произведениях М. Горецкого и М. Богдановича.
Первая из них – проблема сомнамбулизма. Вот – один из разделов рассказа М. Горецкого “Што яно?”: “Ты абліваеш сваім блескам нудна, але ўпорчыва і бесперастання цалюткую ноч. Не блеск, не, не срэбра, а нешта алавянае...” Автор адекватно передает мироощущение и мировосприятие человека-лунатика, перед нами своеобразный “поток сознания”: оборванность, алогичность, недосказанность мыслей, что подчеркивается и графически – многочисленные многоточия (раздел начинается и заканчивается ими), абзацы (они также заканчиваются многоточиями); очень выразительна звукопись – аллитерация на сонорные: “Месячна... Месячна навокал, так месячна, і лезе нешта месячнае, тое маукліва-незразумелае, лезе у кволую душу, зваяваную прыгоствам нецямлівасці ўсяго, што тут спала блізка на зямлі, і што было, нявідзімае, у паветры і што, можа, мае душу ці пачаткі там, далёка, на другіх планетах Усясвету...” Сама тема сомнамбулизма, лунатизма предопределяет ту гамму звуков, которая варьируется, разворачивается в произведении М. Горецкого. Вспомним, например, известный перевод “Сомнамбулического романса” Г. Лорки: “Любовь моя, цвет зеленый. / / Зеленого ветра всплески. / / Далекий парусник в море, / /Далекий конь в перелеске...” или отрывки из “Лунатического рондо” известного футуриста, первые сборники которого были написаны в типичном для того времени стиле символической поэзии, Бенедикта Лившица: “Как мертвая медуза, всплыл со дна / / Ночного неба месяц, – и инкубы, / / Которыми всегда окружена / / Твоя постель, тебе щекочут губы, / / И тихо шепчут на ухо: луна!”).
Эта же гамма звуков характерна и для “Самнамбула” Максима Богдановича: “Месяц выплыў над змрочнай, заснуўшай зямлёй, / / I павёў яго ў цёмную даль за сабой, / / I прывабіў да мглістай халоднай вады...”
Интересно, что в стихотворении Богдановича, как и в остальных процитированных поэтических версиях темы сомнамбулизма, подчеркивается и передается не алогичность и болезненность мыслей героя, как в рассказе М. Горецкого, а своеобразная логика и гармония этого специфического состояния человека.
Кстати, “Самнамбул” – одно из двух стихотворений М. Богдановича, где присутствует вторая интересующая нас тема – тема самоубийства. Оно заканчивается строчками: “І пайшоў ён па шляху, пайшоў аж да дна: / / Агарнула яго цішына, глыбіна”. Однако значительно больший интерес в этом смысле представляет собою стихотворение Богдановича “Дзве смерці из цикла “Места”.
Исследователями уже отмечалась близость этого стихотворения к “Александрийским песням” Михаила Кузмина. Обращение Максима Богдановича к этой теме связано с традициями античной и русской литературы.
По мнению Р. Березкина, стихотворение построено на ассоциации: запах миндаля своеобразно уравнивает, “демократизирует” смерть бедной мещанки и знатного патриция.
С ним не соглашается Т. Чабан, которая пишет, что “в повторенном дважды образе-символе “мігдаловы горкі пах- ” не столько подобия, сколько контраста. В первом случае запах цветущего миндаля – это запах жизни, он естественный и как бы “снимает” трагизм смерти. Во втором случае он искусственный, концентрированный, ядовитый и сам несет смерть. Неизвестное – смерть – вот что объединяет патриция александрийского периода (периода эллинизма, своеобразного “декаданса”, упадка классической культуры Греции) с И. Ивановой с Мещанской улицы, женщиной “конца столетия”.
Возможность разного прочтения стихотворения, множества объяснений образа “мігдаловы пах” говорит в пользу того, что мы имеем дело с символом, с его сложной ассоциативностью и невозможностью разгадки.
Стихотворение действительно вырастает из “подобия-конраста” – как содержания и построения, так и глубинной сущности. Первая и вторая строфы одновременно и похожи по своей композиции, и различны – в них подчеркнуто смещены акценты в развитии основной темы. Одна и та же ситуация, как в кривом зеркале, отразилась в разных временных пластах. Противостоят и поры года: весна (цветет миндаль) и осень (“дым ад спаленых лістоў”), которые заключают в себе подобие-контраст (рождение, в котором заложено умирание – и умирание, с надеждой на возрождение).
Лейтмотив стихотворения – разочарование в жизни. И невозможность ответа, разрешения вопроса, что лучше: смерть с наслаждением, когда все изведано, и последняя ступень неизведанного – только смерть, или смерть как наивысшая степень отчаяния, когда не все изведано, но и не хочется все изведать, как полное неприятие сущего, нежелание его. В стихотворении, казалось бы, две смерти (“з прыветам” и “грозны жэрабій”). Но на самом деле смерть – одна, всех уравнивающая, всех объединяющая.
М. Горецкий к теме самоубийства в своих произведениях обращался неоднократно, особенно в раннем творчестве. Здесь и загадочная, так до конца не выясненная смерть “чорнай, вірлавокенькай, з сумным поглядам, шаснаццацці гадкоў яўрэйкі Муси из рассказа “Красаваў язмін” (вводится посредством вопроса главного героя: “Самагубства? – з балючай цікавасцю ў дрыжачым голасе запытаўся я ў тае ж самае таварышкі нябожчыцы Мусі”). И не менее загадочная смерть (исчезновение?) Владимира З. из “Руні” (“Для свае радні і знаёмых ён па мёр. I так думаюць, што ён зрабіў самагубства…” “Даходзяць, што ён утапіўся, цела ж я го не знайшлі”).
Герой М. Горецкого Владимир З. дает объяснение причины возможного самоубийства. Она целиком соотносится с причиной самоубийства римского патриция из “Александрийских песен” М. Кузмина или И. Ивановой из “Дзвюх смярцей” М. Богдановича. Это – трагическая ирония, характерная для кризисных эпох, с фатальным ощущением драмы человеческого бытия, конфликта между личностью с ее надеждами – и неумолимой судьбой, когда все разумные намерения и стремления осуждены на исчезновение (из писем Владимира З.: “А ты здольны, ты зможаш пісаць, ты павінен працаваць, ты тое-гэта... Пасунь уперад, праслаў родную старонку. Нічога не маю я у сабе. А каб і геній быў я, – усё роўна. Навошта? Усё некалі будзе невядомым, усё цяперашняе згіне”; “Ты – вышэй звычайнага чалавека сваім духам, але дух твой цяжка хварэе, бо сам сабе дайшоў ты смерці ў філасофіі сваёй”).
Однако произведение М. Горецкого построено таким образом, что так до конца остается неясным, что же случилось с Владимиром З. Знакомство с Ядей К., слова “ідзём долю каваць за моры, акіяны” дают надежду на лучшее, как и само очень символичное название рассказа – “Рунь”.
Наиболее полное, страшное воплощение тема самоубийства у М. Горецкого получила в “драматическом образке” “Антон”. Автор натуралистично описывает сцену самоубийства: “Высока падняўшы галаву, водзіць касою сабе па горле, перш тупым бокам; рука трасецца, увесь ён калоціца; перавярнуў касу і шмуляе па глотцы... Кроў чырвона-чорная палілася цурочкамі па жупане. Выкаціў вочы, патроху схіляецца набок; каса валіцца, абпэцканая у кроў. Белы-белы, дзе няма крыві, ляжыць і стогне. Ліцо сказілася ад мукі. Кроў цячэ... Многа крыві... Яна патроху чарнее і запякаецца на сонцы, хоць яно ужо на захадзе”. В произведении называются и возможные причины самоубийства Антона Жабона: “Адны шукаюць IX у незадаволенасці самагубцы сваім бацькам, лесніком тутэйшых папоў, п’яніцаю і гулякам, другія гавораць аб хваравітай набожнасці пакойнага і яго цягаценню да ўсяго таёмнага; доктар знайшоў у мазгу невялікія заломы; дзед і прадзед Жабона – алкаголікі; Антон Ж. гарэлку не ўжываў; жыў у беднаце, не ўсягды маючы хлеба”. Символично, что причины эти обсуждают польский публицист, московский демократ и белорусский автор, а главная тема их беседы – белорусская литература и новый тип человека, сознание типа “нового белоруса” в ней.
Нет смысла доказывать актуальность этих рассуждений для нашего времени, уже более чем через 80 лет после написания произведения М. Горецким (датируется 1914 г.), когда мы становимся свидетелями если не добровольного самоуничтожения, то, по меньшей мере, самоуничижения целой нации – нации белорусской.
И все же хочется довериться М. Горецкому, который заканчивает свое произведение о самоубийстве словом “Жыць!”.