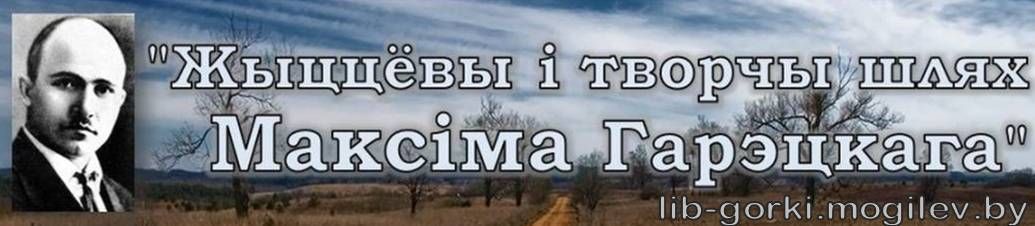ПУТЬ И ВЕЧНОСТЬ ПАТМОСЦА
Символ в мифопространстве “Скарбаў жыцця”М. Горецкого
“Скарбы жыцця” Максима Горецкого – одно из самых сложных произведший в белорусской литературе, и прежде всего – с точки премия литературной герменевтики. По мнению американского литературоведа Хэролда Блума, “гениально то, что не может быть ассимилировано”. “Скарбы...” как художественное целое практически не поддаются “литературоведческой ассимиляции” – некоей унификации, расшифровке. Философский символизм этого произведения М. Горецкого не может быть сведен только к сумме аллегорических смыслов (в предисловии к первой публикации в журнале “Полымя” (1993, №2) “Скарбы жыцця” были окрещены “образками-аллегориями”).
Уникальность “Скарбаў жыцця” связана прежде всего со специфичностью их художественного пространства, которое, бесспорно, есть пространство мифологизированное, представляющее собой своеобразный “симбиоз” языческой, христианской и окказиональной мифологических систем. Принципиально важно то, что мифопространство “Скарбаў жыцця” структурируют не мифологемы, а архетипы: имеется в виду противопоставление в концепциях мифологической критики мифологемы (mytheme) как сознательного заимствования автором мифологических мотивов – архетипу как бессознательной репродукции этих мотивов. Мифологизация М. Горецким текстового пространства “Скарбаў...” воспринимается не как префигурация (“подчеркнутый” художественный прием), а как результат символического осмысления действительности, в чем, собственно, и заключается суть мифотворчества, ибо “миф уже содержится в символе, он имманентен ему” (Вяч. Иванов), миф вырастает из символа, понятого как реальность, подобно тому, как колос вырастает из зерна.
“Входом” в мифопространство “Скарбаў жыцця” становится символ врат в нем реализуется (как бы “персонифицируется”) архетип межи, отделяющей действительность от “мира иного”. В “Скарбах...” М. Горецкого мы имеем дело с символами “второй степени” (Л. Лосев): они предопределяют переживание художественного текста как указания на некоторую инородную перспективу, на бесконечный ряд возможных превращений. Символ в данном случае рассматривается как принцип конструирования хронотопа, как арена, где встречаются определенные конструкции сознания с теми или иными предметами этого сознания.
“Скарбы жыцця” – художественное целое в строгом смысле. Структурная устойчивость и завершенность мифопрострапства связаны здесь с системностью отношений между символами (врата, вечность, маскарад, еtс.). Так символ врат как бы продолжается в архетипе пути (“цярнёвай дарогі”) одном из самых важных архетипов в белорусской культурной парадигме: “Адчыніся ж ты, брама, нарэшце!.. О мой край! О мой шлях!”
Путь у М Горецкого пролегает через вечность-пространство в вечности-времени. Именно интерпретация образа вечности в “Скарбах...” наиболее ярко демонстрирует специфичность авторской мифологии: иначе говоря, оригинальность индивидуальной мифологии (как и ее целостность) обусловлена той системой отношений, которая устанавливается в тексте между центральными символами. Вечность образует своего рода сферу (сферический “хронотоп”), в рамках которой и осуществляется здесь – бытие для так называемого я – героя. У каждой “вещи” – своя вечность: “Узіраюся ў вечнасць. Пыл, пот, крыжыкі на грудзёх – як у мангола выразаны з каменя абраз змеяпадобнае свінні, – і марудны, а бясконцы крок, вечнасць... Вечнасць!”; “Смех, жарты. Святкі Гуляюць падарожнікі. Гуляюць, кружацца у безуважнай, немай вечнасці”; Гоман сціха-пакорны. Пах ладану і мёртвага цела. Полымя ад жоўтых свечачак: у полымі – вечнасць...”; “Рудая лычкастая свіння, з доўгім, голым, маршчынаватым хвастом, са шчэццю стаяком на хрыбціне, рохкае, рыецца у сваей вечнасць (выделено мной. – И.Ш.)”. Но каждая индивидуальная вечность – элемент универсума, суть которого определяется автором “Скарбаў...” через понятия хаотичности и абсурдности.
“У чорнай цямноце віхор вечных прастораў” – так вербализуется символическая формула-структура хронотопа “Скарбаў жыцця”. Оказывается, что хаотическое бытие “вещей” (“Тое, што завуць: бог, любоў, павіннасць, праўда, ідэал – усё яно дробненька круціцца у вечнасці, і туды і сюды, і так і гэтак”) и есть вечность для я-героя. Мы становимся свидетелями измельчания бытийных смыслов в пространстве вечного (а потому безграничного) абсурда.
Поскольку вечность в “Скарбах жыцця” осмысливается М. Горецким как нечто абсурдное, безысходное, бесцельное, то архетипический мотив путешествия-поисков (счастья, правды, смысла существования, еtс.) “материализуется” в символе лабиринтообразного и, главное, не единственного пути: “I я пайшоў. Старыя дарогі пераступіў. Новыя шляхі рассцілаліся прада мною. Сілам сваім рабіў парад. Зброю сваю аглядаў. На новыя баі рыхтаваўся... вялікія баі”; “Колькі там ходаў, колкі там выхадаў, высокіх і нізкіх, шырокіх і вузкіх, светлых і цёмных, ходаў і выхадаў жыцця. <...> Лёс мой – на ростанях стаяць, пэўных дарог сваіх не ведаць, у лесе думак і ўчуццяў блудзіць”. Вечность как символ хаоса предопределяет понимание пути как символа бессмысленного, абсурдного движения в никуда – в вечность-хаос, в вечность-абсурд: “I колькі я ж йшоў шляхамі сваімі – заўсёды памыляўся”.
Очевидно, что отношения взаимного детерминизма, установившиеся между двумя центральными символами, определяют, в свою очередь, специфику художественного пространства “Скарбаў...”.
Репрезентация реальности посредством символов, наряду с процессом мифопоэтической символизации, – важнейшие аспекты выделения культуры из некультуры. Символизация рассматривается как основа мышления, основа любого понимания и обозначения – как фундамент всей коммуникации и культуры. Не желая свести суть искусства к “метафорическому символизму” (С. Лангер), стоит все же обратить особое внимание на значительность роли символа в создании метатропа – своего рода “несущей конструкции” художественного пространства “Скарбаў...”. Так символ пути функционирует как организующее начало, некий принцип моделирования. Путь (точнее, клубок путей) так или иначе проходит через фрагменты-отрывки вечности, возвращаясь в финале к своему началу-концу: “Дык слава жыццю! Слава і смерці!” “Странность” бытия внутри вечностей М. Горецкий выражает через символ маскарада: “Разбой у цямноце ночнай закіпіць. Пасохлая ніва пасыплецца на чорны дол. Патмосец жаласна заенчыць... На тым маскарадзе бачыў я страшны хадзячы шкілет. I скамянеў ад жалю”. В свою очередь глубинный смысл зловещей фантасмагории расшифровывается с помощью символического образа поезжан, которых даже смерть не избавляет от Пути: “Едуць, едуць паязджане! Едуць, едуць госці дарагія! У кашулях вышываных... Круглымі вачыма глядзяць. Пахам тлену павеяла на мяне”. “Скарбы жыцця” вообще представляются “клубком символов”, распутать который до конца, вероятно, вряд ли возможно, поскольку даже отдельный символ обладает гораздо более древней культурной памятью, нежели память его текстового окружения.
По мнению К. Ясперса, только символическое сознание, опирающееся на экзистенциальный опыт конфликтных или поворотных ситуаций своего времени, способно выявить нечто истинное. М. Горецкий в “Скарбах жыцця” кодирует свой образ мира в символических формулах: необходимость “рассказать себя” актуализирует символ как элемент “другого языка” (своего рода метаязыка). Этот зашифрованный образ мира, по сути, есть миф – “повествование” об отрезке действительности, в которую включен субъект. “Скарбы жыцця” – трагически-пронзительный миф о сломанном мире, где, казалось бы, отсутствует мотивация движения, поисков – исчезает мотивация к жизни: “Хаджу, шукаю, – і нічога не знаходжу. <...> Цёмны шляхі мае. Цёмна ў мяне на сэрцы. I хатыль жыцця цяжак мне цяпер, як камень на шыі тапельцу”; “I якое, аднак жа, шчасце дадзена табе, чалавеча, што залезшы як рыба у нерат – можаш ты сам сабе зрабіць канец, сваім болькам і пакутам... Слава прамудраму ладу жыцця!”
Координаты существования я-героя, осужденного на бессмысленное преодоление собственной судьбы, определяют символы квазивечности и псевдопути: “На горы высокія-высока, за тым бяздоннем, з вялікім трудом лезу... Высока-высока ўзлез! Высока-вялікія прасторы вакол сябе ўнізе бачу... I з вельмі апалым сэрцам апынуўся я у склепе пад зямлёю”; “Сонейка мне грэла. Ціха было вакол. Толькі травы калышуцца шумам бясшумным... I добра было мне ляжаць, добра было мне нікуды не йсці. Ляжаць, не рухацца і не думаць... <...> Мусіў устаць. Мусіў ісці. Думкі мае цягнулі мяне ў адзін бок, сэрца маё цягнула мяне у другі бок...” Христианский мотив мессианства (“Пайшоу, хадзіў бязмэтна... А мэта была у мяне, только я не ведаў, што яна ёсць, што яна цягне мяне”) трансформируется в экзистенциальный мотив борьбы с собственной несвободой (“Жыццём даражыць навучыўся. I да смерці сябе рыхтаваць я умею”).
“Скарбы жыцця” М. Горецкого - в белорусской литературе еще и первый – и блестящий – пример “светлого экзистенциализма”, который обнадеживает вопреки себе самому: “I думаў я пра смерць сваю і пра бога свайго. Смерці прыходу чакаў пакорна і панура, як вол даўбні. <...> Шукай свой човен залаты! Едзь на выспу Патмос. Даўно там не быў. Духам аскудзеў. О сонца светлае-прасветлае, абагрэй ты мяне! Далёкая выспа Патмос! Там прытулак...”
Сконденсированность символов в “Скарабах жыцця”, напряженность художественного пространства создают впечатление адекватного воспроизведения действительности. Символизм “Скарбаў...” принципиально не может быть отождествлен с литературно-художественной практикой и французского символизма 80-х годов XIX века, и русского символизма конца XIX – начала XX столетий. И прежде всего потому, что для символистов symbolon – это слово: слово-ребус, слово-ракурс для французов – смотрителей музея бодлеровских “соответствий”; слово “возопившее”, разрываемое на куски для русских – мистиков и богоборцев. Для М. Горецкого создателя “Скарбаў...” – символ есть вещь, плоть мира реального. В “Скарбах жыцця” символ изначально экспрессивен: он не столько выявляет сверхбытие на уровне бытия, сколько организует встречу этих двух “миров” в пространстве абсурда: “Страшнае дзіва закрычэла праразліва і загрукатала міма мяне з шумам жыцця вялікім”. – “I прасіў я паратунку ў выспы Патмос. Словы мае – слёзы мае”; “Стрыкоча птушачка у ціхім блакіце светлых нябёс. I скрыўленыя набок санкі у крыві; рот вечна смяецца – мёртвы. Скручанае цела. I яшчэ таю, і яшчэ. Наўзнак, на баку, з падвёрнутымі рукамі,з падкорчанымі нагамі ракам, ніц... Трупы падарожнікаў (выделено мною. – И.Ш.)”. – “Будзеш на выспе Патмос. Восплачешь и возрыдаешь горько... I паглядзець яна весялей на цябе. I палягчэе табе. Усё жыццё праляцела, як адзін дзень. Усё яно – як на далоні. Восплачу и возрыдаю”.
Однако важно обратить внимание на типологическое сходство некоторых мотивов и их художественного воплощения у М. Горецкого и классика французского символизма Мориса Метерлинка: стоит сравнить хотя бы приведенные отрывки из “Скарбаў жыцця” со следующей цитатой из пьесы Метерлинка “Непрошеная”: “Не знать, где находишься, не знать, откуда идешь, не знать, куда идешь, не отличать полдня от полуночи, лета от зимы... И эти вечные потемки, вечные потемки... Я предпочел бы умереть...” Достаточно иллюстративно и сопоставление образов слепых из одноименной пьесы Метерлинка с образом странников из “Скарбаў жыцця” Горецкого: “Палятняныя хатылі на плячах. Сляпыя вочы. I цёмныя потныя крыжыкі на відных з сарочкі худых грудзёх, там дзе цьмяны ад сонца пасак на деле. Наўкола – жудасна-ціхая пустэльня. А ў ёй - шарпанне ног крок за крокам. Жудасна- марудны крок. Вечнасць. Хада”.
Именно экспрессивность как определяющая характеристика символа в “Скарбах...” избавляет и сам символ, и произведение в целом от того “дидактизма”, своеобразной императивности, которые так или иначе проявляются в текстах “последовательных” символистов. Вероятно, поэтому мифологизм “Скарбаў жыцця” воспринимается не как префигурация (художественный прием), а как естественный способ повествования о здесь-бытии, единственно возможный способ “рассказать себя”: “Страшным, балючым крыкам здань галасіла: “Быў жа ў мяне адзін бог, і няма яго! Быў жа ў мяне і другі бог, і няма яго!” Я не адгукаўся на той жудасны крык. Замкоў сваіх не кранаў. Браму скарбаў сваіх на крык не адчыняў. А любіў я песню купальскае ночкі. А любіў я і жытні каласок. Сядзеў, слухаў і моўчкі ўспамінаў, як беглі вар’яты, як яны крычэлі “Выдыбай, божа, выдыбай!” Я маўчаў. Бо што я мог сказаць?”
Таким образом, символ в “Скарбах жыцця” – и принцип моделирования мифопространства, и неотъемлемая часть его художественной структуры, которая во многом определяется системой отношений между символами в произведении, Оригинальность же индивидуальной авторской мифологии в “Скарбах жыцця” связана прежде всего с экспрессивностью созданных М. Горецким символов – судя по всему, непреходящих в своей актуальности “фрагментов” белорусского мифа:
“Помніў я дзень кансулътацыйны. На тэрміновы парад ішоў.
Там, у замку гатыцкага стылю, у белай параднай каморы, бачыў я процьму гасцей: вар’ятаў, блазенных I дзівіўся вельмі: адкуль іх столъкі нанясло?
I былі яны у вопратцы панскай і ў простай, у дарагіх скурах і ў простых вяроўках, тлустыя і посныя, голеныя і барадатыя, з абліччам нацый паўночных светлых і з абліччам нацый паўдзённых чорных,і мова ў іх памяшана...”